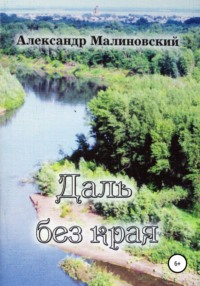Полная версия
Голоса на обочине
Ну, ладно, думаю, кошек и собак поели. Но люди-то должны остаться, хоть сколько-то… Неужто никого?..
…Я ещё в сенях насторожился. Запах…
А как открыл дверь: дух мясных щей волной ударил в ноздри.
Смотрю, в печке огонёк сверкает. Агафья с ухватом стоит.
– Проходи, проходи, сродничек! Давненько тебя не видела. С чем пожаловал, Ванечка?
Разговорчивая такая…
Она спрашивает, а я молчу. Одно на уме: «Откуда у неё мясо?
Неужто она?..»
Не знаю, что делать! Говорить с ней или удрать сразу. Страх обуял…
– Вот сейчас щец налью, тогда и расскажешь.
И достаёт хозяйка глиняную чашку с отбитыми краями, тёмную такую.
Я еле выдавливаю из себя, не подходя к столу:
– Настя родила и скончалась. Теперича девочка её померла.
Племянница моя. Похоронить бы надо.
– Похоронить? – быстро переспрашивает Агафья. И поворачивается ко мне всем лицом. Глаза у неё пустые. Ничего, рона, в них нет, прозрачные…
– Привези её мне, – говорит.
– Зачем? – вырвалось у меня.
Ни с того, ни с чего лицо её, не лицо, а небритый гаденький урыльник с редкими чёрными усами, затряслось в едком мне смехе:
– Затем, что ребятёнки вкуснее. Уж я-то знаю!.. Скажет тожа: похоронить, – пустые её глаза, обращённые в меня, её мерзкий дребезжащий голос лишили меня последних сил.
Я попятился в сенцы и вывалился на улицу.
Не помню, как пришёл домой.
…Потом-то у тех, кто переступил черту, вроде Агафьи, лица, я заметил, становились, как у неё, – урыльниками. Да и жили они опосля совсем недолго… Хотя и голод уже малость отступил.
* * *…Решил я отвезти девочку на салазках в этот покойницкий амбар, где и Настёна. Недалеко совсем.
…Привёз кое-как. Замка на двери нет. Взобрался на порог.
Что я увидел?.. Трупы лежали и штабелями, как дрова, и… как попало.
Сеструху я нашёл быстро. Она распласталась вдоль бревенчатой стены. С левой ноги её, начиная от бедра, кусками была срезана вся мякоть. Отсечены обе груди. Многие были искалечены, не токмо она…
Как я тогда не сошёл с ума, не ведаю.
…Чтобы девочку не достали и не утащили, я, как мог, за несколько приёмов, распихал в серёдке амбара тела и опустил её на самый пол. Потом прикрыл, чем мог.
Голова соображала тупо. Когда, шатаясь из стороны в сторону, шёл домой, дал себе слово, что обязательно доживу до весны и захороню Настёну с дочкой у нас в огороде. На виду, чтобы, значит, не раскопали…
Эта вот задача, которую я себе определил, может, и помогла мне выжить тогда.
* * *…Пришла весна 22-го года. Сиреневые почки за огородом набухли, вот-вот распустятся…
Народ иссох за зиму. Кто как, кто на четвереньках, стали выползать на полянки. Ели любую зелень, любую травку, которая попадалась…
Некоторые тут же, померев, валялись.
…Я, как мог, поволокся к амбару. Два раза падал, лежал подолгу. Набравшись сил, вставал и снова колтыхал.
…Трупов в амбаре было уже меньше, чем зимой. Растащили.
Настёна лежала теперь в углу, ближе к выходу. Видать, собирались утащить, дак не успели. У неё не было правой ноги совсем.
Девочку я не нашёл, как ни старался…
* * *…Тут вскоре тех, которые в амбаре уцелели, власти захоронили. И Настёну тожа. По улицам собирали тех, которые из-под снега, значит…
Девочку-то я тогда не назвал никак. Теперь вот, когда поминаю в церкви всех, кого знал, её без имени называю… Просто девочкой.
Хоронили из амбара прямо на наших задах, где эти самые кусты сирени, которые когда-то укрыли меня.
И сейчас эта сирень на своём месте. Последний раз я там лет десять назад был. Удивительное дело: чахленькая эта сирень жива, цветёт себе. А стольких людей, когда-то розовощёких, рослых, деловых, разных, не стало. Как ветром выдуло, унесло. Теперь всех уж и не вспомнить.
…Как так случилось, что живу я более уже девяноста лет? На каких таких дрожжах?
Те, кто народился потом в нашей деревне и живут теперь, в большинстве не ведают, что там случилось… И мало интересуются.
И надо ли знать, как всё было?
Но ты вот спросил.
…Мыслимо ли, чтобы такое случилось ещё?
Озорник
Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь?
Всё равно скучно сидеть в этом аквариуме. Не скоро дождёшься своей очереди. Я потихоньку, чтобы этих старушек болезных не разбудить. Не думал, что по поликлиникам буду бегать. Было это давно, ещё в первые годы перестройки, когда я работал директором большого завода. Тогда ещё завод был крепок. Итак, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза в месяц был: так легче этот страстной день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив всё своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку – ведь идут со всем, что наболело, – под конец приёма, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие тогда огромный астраханский арбуз принёс.
– И танцевал лезгинку, да?
– Во, во, он самый! Всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная была: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, окончив институт, чёрт те дери, выдвинулся. Теперь у меня в активе два инфаркта, a он и сейчас танцует. Ну ладно, ближе к истории.
Он, понизив голос, продолжал:
– Входит, значит, он и: «Вот, – кладёт мне на стол заявление. – Прошу материальной помощи, поиздержался», – поясняет. «Что так? – спрашиваю. – Не мог запросто зайти, в обычное время?» – «Не мог, – говорит, – пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть…» Ну я, замороченный напрочь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положению». Он берёт заявление и быстро уходит.
И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Чёрт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно так посмотрел на меня и вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат». – «Что, – шумлю, – за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и подчёркнуто вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живём мы по-разному?» – «Как так?» – спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, – сам себе он отвечает, – а у меня географическая карта мира. Смекаешь, разница какая?» – «Ни черта не смекаю», – отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище соображал: карта мира на стене над кроватью». – «Ну и что? – реву я. – Что?» – «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан – Арктика! Внизу соответственно – Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» – и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю!» – «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дражайшей супруги ни были – они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая! – он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. – Жуть какая, а?» – «Что ты городишь? Причём здесь это?» – «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» – сказанул… и выскользнул из кабинета… до следующего своего фокуса.
Серая сонька
В Чёрновке был завод верёвок, а Сонька этому заводу принадлежала. Лошадь старая была очень. Плохо уже видела.
Её и решили пустить на колбасу. Но наши поселковые упросили отдать её нам – молоко возить.
И возили. Собирали с окрестных деревень и доставляли на молокозавод. Этот завод был тут, на старых графских развалинах.
Сонька в посёлке у каждого во дворе жила поочерёдно. Всем принадлежала.
Когда у нас жила – у меня наступал праздник. Хлеба нарежу, солью посыплю – лошадушка моя и ходит за мной, как на верёвочке, ждёт, когда дам ей.
У моего папы Звезда Героя была, именные часы за храбрость.
Он был на войне наводчиком. Разворотило ему левое плечо снарядом, а он выжил. Комиссовали его.
Во время войны работал он на заводе в Самаре. То кузнецом, то трактористом. Ночью самолёты вывозит с завода, а днём кузнецом работает. Домой неделями не появлялся. Тогда так работали.
Выдохся. После войны стал трудиться, где верёвки делали.
У нас в посёлке.
Как и Сонька, быстро слепнуть начал. У него с войны контузия была. Обоим досталось в жизни. Сонька папу нашего больше, чем меня, любила. Так любила, без хлеба с солью. Он ей и упряжь ремонтировал, и телегу лёгонькую такую приспособил.
В пятидесятые годы сахара у нас не было. Откуда ему взяться?
Папа посылал меня за мёдом на пасеку к своему дядьке Винокурову. Мы ему с Сонькой молока, а он нам – мёду.
До пасеки больше семи километров дороги, чуть не половина – лесом. А я с Сонькой не боялась в лесу. Не знай – почему? С ней как дома везде…
Когда проезжали мимо молокозавода, Сонька всегда останавливалась. По привычке ждала, когда фляги порожние принесут. Такая обязательная.
…Школа у нас была километров за пять от посёлка. После занятий за нами чаще всех приезжал мой папа.
А один раз, февраль был, метелица, занятия отменили. Нас отпустили. А я не стала ждать, когда за нами папаня приедет. Чего ждать целый день? Одна и умыкнула домой из школы.
Папа с Сонькой прибыли за нами, а меня нет. Домой, говорят, ушла. Вернулись они домой, а меня и там нет. Что делать? Поехали двое слепых искать одну неумную.
А я в метель сбилась с дороги. Пошла в степь, в сторону от посёлка…
Папа рассказывал: «…Уже совсем было надежду потеряли. Не знай, что и делать? Голоса уж нет кричать… Сил самому идти нету. И Сонька выдохлась, вижу…»
Долго они маялись в метель эту.
…А тут она, Сонька-то, свернула с дороги и, как могла, пошла полем. Чуть не по брюхо в снегу. Подошла к заснеженному бугорку и остановилась. Отец подходит, а это я сижу. Уже никакая.
Спасла меня Сонька!
Дальнобойщик
Что, блин, рассусоливать? Любовь – любовь!.. Если она есть, то есть! А нету – ищи ветра в поле.
Я – дальнобойщик. Вернулся домой, а она мне подарочек приготовила:
– Всё, Коля, не нужны мне никакие твои денежки. Не жена я тебе больше. Ушла от тебя, с другим живу. Мне муж нужен, а не эти твои: приехал-уехал. Как морячка. На фига мне твои подарки, квартира?
Сгоряча разговоры разговаривать начал, а потом думаю:
«А мне на фига это, если она уже полгода с другим живёт?» Половину вещичек своих к нему перетащила, а я и не заметил.
Ушёл сам, без скандала. Квартиру оставил: с ней же наш сын Ванька. У меня вторая однокомнатная есть. Небольшая, правда, но… перетрусь.
Запил было сначала. Один же! Что делать?
Скоро в рейс снова, как быть? Задача! Думал, думал – ничего путного в голову не идёт. Мне что? В сорок лет по дискотекам подругу искать? Или в клуб «Кому за 30», в нафталине копаться? Не для меня. Один мой приятель по Интернету себе нашел подружку – приехала такая горилла, еле через месяц выпроводил.
Ничего не придумал я. А тут из магазина с продуктами выхожу, смотрю: очередь на троллейбус. Ага, приличная такая очередь на остановке. Жмутся все, холодно. Одни женщины, как будто кто нарочно так сделал для меня.
Мысль у меня высеклась. Подошёл к середине очереди и бабахнул прямой наводкой, открытым текстом:
– Женщины, дорогуши! Посмотрите на меня: ну я ж нормальный! Руки, ноги – всё при мне, не дефектный какой! Зарабатываю неплохо. Выпиваю так себе: от случая к случаю. Есть недостаток: рейсы длинные, надолго уезжаю. Но это же профессия! Мужику работать надо!
– Чё тебе надо-то, сердешный? – спрашивают из толпы.
– Жена нужна, – отвечаю, – искать некогда мне: через два дня в рейс. Кто смелая – соглашайтесь!
– А прежняя где? – спрашивают.
– Нету, не выдержала моей профессии! Ушла. А квартира есть, – отвечаю. – Бить женщин не умею. Не гуляю.
Какая-то пухленькая дамочка объявила то ли в насмешку, то ли всерьёз:
– Бабоньки, так это ж почти идеальный жених!
В толпе засмеялись, так, по-доброму. И тут вышла одна, невысокого роста, черноглазая:
– Я согласна.
И мы пошли ко мне. Как пришли – так и живём. Маша разведённая была. Расписались, обвенчались. Судьба.
Сыну Егору полтора уже. За вторым пошла, УЗИ подтвердило.
Всё по науке. Решили Ванькой назвать. Так Маша хочет. Не могу возражать. У меня два сына Ваньки будут. А!
Такая она – любовь-морковь.
Жених
Поздним рейсом прилетел из Москвы. Взял такси, еду в Самару.
Шофёр с виду симпатичный такой, разговорились. Рассказывает:
– Шесть лет как приехал из Бишкека с русской девушкой в Саратов, где живёт её мать. Денег на двоих – двести долларов. Намеревались начать семейную жизнь, сняли квартиру. Хозяйка сварливая, квартира двухкомнатная. В одной – она, в другой – мы. Недолго выдержали. Уехал с Надеждой в Калининград. Но жилья нет, снова маета по квартирам. Она не выдержала, уехала домой к матери. И я не задержался, махнул в Самару.
Работаю вот таксистом. Единственный способ устроить жизнь – найти женщину лет тридцати пяти-сорока с квартирой. Знаю, таких немало, но они ходят где-то… Трудно встретиться.
У хозяйки дочь есть. Ей тридцать лет. Бухгалтер. Но молчунья.
Полгода знакомы – не пойму, что в ней сидит?..
Начал в фитнес-клуб ходить, вот таксистом работаю: может, через клиентов познакомлюсь. Нет у меня опыта в таких делах. Когда молодым был, меня выбирали. Я тогда в оркестре играл: проблем не было… А теперь застопорило.
…Недавно познакомился с одной: она с деньгами. Муж умер.
Пустила в свой богатенький круг. Но мне сорок, ей – пятьдесят. Несерьёзно.
Так время и идёт.
Вчера взял билет в Бишкек. Мама написала, что приглядела мне невесту… А вдруг?..
Увлечённый
Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки, седовласый и грузный профессор Дамаскин.
…Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.
Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действо. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.
Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!
Остановившись на миг, профессор вопрошает:
– Сам процесс понятен? Суть его?..
Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:
– Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете что такое?
И, не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.
– Уловили главное! – уверенно восклицает лектор. – Молодцы!
…Когда лекция закончилась и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом – признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.
– Послушай, а причём всё-таки карбюратор?
– А что вы хотите? Вот чудаки! Мы два последних выходных с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале всё не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял… Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.
Зайка серенький
Мне семьдесят пять лет этой осенью будет. Кому нынче она интересна, жизнь моя? Тебе, говоришь? Ты свою-то слушал мать, когда жива была? То-то и оно… спохватился…
* * *…Раньше-то я многое помнила, а теперь выветривается. Больше из детства застряло в голове. Иногда прям живые картинки перед глазами… Вот одна из них. Было давно, а будто вчера…
…Мама сунула в полотняный мешочек бутылку молока с газетной затычкой, два яичка, спичечный коробок с солью, хлеба: «Отнеси, Кать, отцу, мне неколи: на ферму к коровам надо».
Иду себе вдоль бровки просяного поля. Оглядываюсь, не забываю, назад. Так мама мне наказала, чтоб лошадь не задавила, как Миньку Сорокина. Он маленький был, четвёртый год ему шёл, а я уж не такая. Мне пять лет! Над головой, не знай где, жаворонки звенят, высоко! А из-под ног куропатки то и дело: фыр-фыр. Мне уж и пугаться надоело, правда! Жизнь – сплошной праздник! Радуюсь иду! А тут: заяц. Сидит в меже. И не убегает. Наверное, понял, что я маленькая и нечего меня бояться. И так он мне понравился! Он маленький, и я тоже безвредная. Уши у него длинные, с чёрными кончиками. А сам весь бурый с рыжеватым оттенком, голова и часть спины за ней – тёмненькие. Хочется рукой погладить.
Сидит себе и продолжает глядеть на меня своими красновато-коричневыми глазёнками, обведёнными белыми кольцами. И я на него смотрю, глаз не могу оторвать. Такое живое чудо! И как домашний!
…Надо же: я уронила сумку на землю. Дёрнулась за ней – зайка и скакнул в сторону. Смотрю кругом. Как и не бывало его… Села на траву и реву, дурашка, в голос. Такое горе!
Папа подходит:
– Катюха, ты чего? Неужто опять волки пробегали?
– Нет, – отвечаю, – не волки! Зайка серенький ускакал!
– И что же ты плачешь? Вставай, пойдём. Там тенёк у меня есть. Давай обед-то мне, понесу.
…Мы идём с отцом к его стану. Вся моя пятерня в папиной широкой шершавой ладони. Папа такой большой и надёжный… А я продолжаю всё равно плакать. И сама не знаю, почему плачу. Не могу остановиться. Заливаюсь…
…Иду и словно сердцем чую, что не будет у меня больше такой… светлой моей печали… не хочется с ней расставаться…
Всё впереди будет оглушительным и страшным. На другой день объявят, что началась война. Папу в первые же месяцы войны ранят, и он вернётся без ноги. Братика Володю убьют через полгода, а потом и другого братика Серёжу убьют. И мама от такого горя станет никакая… сердечницей.
…Плакала я тогда, шагая вдоль просяного поля, будто прощалась с детством, в пять-то годков своих…
Колода
Одно время папа с мамой держали гусей. Мороки с ними!..
Один гусак, мы его звали Гошей за то, что он всех громче кричал «го-го-го», был совсем особенный. Своей жизнью жил… Летом он улетал в другие деревни, а осенью возвращался и приводил с собой к нам во двор чужих гусей. «Добытчик», – смеялся папа.
Мужики, конечно, ругались. Грозились застрелить Гошу.
В одну осень он не вернулся. Исполнили, видать, мужики свою угрозу. Так папа горевал о Гоше. Он его уважал за его такой независимый нрав и за умение летать…
…Гонять гусей на озеро было моей заботой. Намаялась я с ними.
…Когда резали гусей, хранили мясо в погребе. Набивали его весной снегом и льдом, а сверху – опилки. Когда их не было, стелили ржаную солому. Гусятину солили. Я не могла есть солонину, вообще гусятину. Так за лето к гусям привыкала, каждого знала. Разговаривала с ними. И в погреб не могла спускаться за молоком или ещё за чем-либо, когда мама попросит… Сама-то она не могла…
…Папа пожалел меня. Перестал держать гусей. На овец переключился. А я и с ними подружилась, с барашками. Они забавные. Не шипят, не гогочут громко. Тоже доверчивые, особенно маленькие когда…
Я по осени места себе не находила. Блеяли они, когда их из стада забирали, так жалобно. Точно знали, что с ними скоро будет, с наступлением осенних холодов, когда их начинали резать на мясо. Себе, на рынок…
Папа со мной и так уж, и сяк, а я только плачу…
«Вот графинечка-то у нас растёт, – досадовал он в сердцах, – достанется тебе в жизни».
Неудобная я была. Как колода поперёк дороги. Угадал отец: намыкалась я со своим характером за свою жизнь потом, когда мамы с папой не стало…
Куда денешься?
Середина 60-х годов. Я после техникума в колхозе работаю агрономом. Весенняя посевная. Из района поступила команда сеять кукурузу. Ходим который день с председателем понурые. Михаил Кириллыч зовёт меня в кабинет. Вхожу, сажусь.
– Ну что? – говорит председатель. – Надо принимать решение. Кроме угроз, последние дни из района ничего нет.
– Дак, – говорю, – не послушаемся – в тюрьме будем, а послушаемся, засеем кукурузой – без кормов останемся!
– Делать-то что? – спрашивает.
Молчу. Всё вроде бы уже сказала.
Входит секретарь наш партийный. Фронтовик. Бывший агроном наш, только без образования. И без руки. Сел на подоконник. Мы с председателем молчим.
– Что в молчанку-то играете? И меня сейчас отчитали по телефону. Кто-то донёс, что тянем с посевной. Сроки уходят!.. Куда денешься…
Я вся напружинилась, вцепилась пальцами в край стола… Вот-вот взорвусь, молодая!
А секретарь попыхтел-попыхтел беломориной своей вонючей, прокашлялся и… говорит, глухо так:
– Неужто у нас своей головы нет?
И на меня смотрит:
– Как, Мельникова, есть головы у нас?
– Есть, – говорит Михаил Кириллыч, – только тюрьмой пахнет…
А секретарь ему обыденно так:
– Коли посадят, отсидим. Хуже всех, что ли? Будем считать, что этот вопрос мы обкашляли и приняли решение.
Такого я никак не ожидала. Так вот просто!
…Решили мы засеять одну полосу, что вдоль дороги из района, которая на виду, кукурузой. А всё остальное – клеверами. Клевера на полях колхоза «Новая жизнь» всегда хорошие были.
Я нетерпеливая была. Напереживалась…
А колхоз за пятьдесят километров от райцентра. Никто и не узнал толком о нашем поступке.
Подошла пора уборки урожая. Все, кто посеял кукурузу, остались без кормов, а у нас такая удача! Соседи, которые с кукурузой связались, явились к нам с протянутой рукой.
– Удачливая ты, – похваливал меня потом Михаил Кириллыч, – повезло нам, что ты у нас такая! Нам стыдно было, мужикам, труса праздновать у тебя на глазах.
Шутил, конечно.
– А я какая? Никакая ещё… Я невысеянную кукурузу, семенную, всю на остатках показала, как есть. Ничего не думала.
К концу года районная балансовая комиссия заработала.
И возник вопрос: откуда у нас излишки кукурузы? Подсудное дело. Пришлось сознаться: куда денешься?
Комсомольский вожак
Лежу у хозяйки на печи. Простыла, грею пятки. А тут приходят и говорят:
– Вот, Кать, тебе комсомольский билет! Ты теперь комсомолка!
– Как так? – свесив ноги с печи, спрашиваю.
– А так! – отвечают ребята снизу. – Ты агроном наш, специалист – тебе надо!
А чуть позже, я ещё от простуды не избавилась, объявляют:
– Будешь нашим секретарём. Нам вожак нужен. Ты такая крепкая и разумная. Больше некому! Завтра будет комсомольское собрание.
– Да как же? Я не знаю, как это!
– Дело покажет как, – говорит наш партийный секретарь.
…И так помогло мне это в работе! Только комсомольцы и выручали. С песнями, прибаутками… За пять-девять километров в ночь приходили, на токах работали. Каждое зёрнышко берегли.
Наш колхоз передовой был. Так молодёжь гордилась этим!..
Церковь Михаила Архангела
Приехал к нам Андрей Петрович, председатель из Михайловки, и говорит:
– Давай-ка к нам агрономом. У нас дел! Как раз для тебя.
С твоей-то энергией… Наше село не твоя деревенька Сухановка, районное… Опять же освобождается двухкомнатная квартира – считай, она твоя.
…Приехали, значит, мы к ним в Михайловку. Мне нравилось это село. Все трактористы – мужики хорошие, деловые. На полях порядок.
Пошли смотреть гараж, где трактора да комбайны стоят. А гараж этот в церкви разместили.
Я как зашла! Там гул, дым синий. Матерком мужики перебрасываются. У меня сразу с головой что-то… Как же это я смогу так? В церкви-то? Хоть и неверующая, комсомолка, а не по себе стало…
Вышли на улицу. И тут старушка какая-то, как привидение…
У стен красно-кирпичных… Смотрит… И лик у неё иконный… глядит на меня глазами моей давно умершей богомольной бабушки Прасковьи. И будто насквозь меня пронзает. Молча…
Андрей Петрович мне:
– Ты что? На тебе лица нет. Плохо со здоровьем?
А я ничего сказать не могу толком…
…Отказалась я тогда от предложения Андрея Петровича. Бог с ней, думаю, с квартирой. Поживём в однокомнатной.
…А теперь церковь Михаила Архангела восстановили. Красивая такая! И снаружи, и внутри! Народ потянулся отовсюду. И я помолиться прихожу. И у меня на душе благодать. Как хорошо-то, что я не согласилась тогда… Кто-то меня предостерёг…