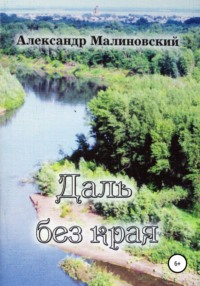Полная версия
Голоса на обочине
Пошутила она так… Ага…
«Что делать?» Он, Митька-то, нахохлившись, коршуном и бросился на неё. Замкнуло в нём что-то… Стал кусать её за плечи, за грудь, за другие места. Кожа клочьями… Повалил и всё зубами, зубами её…
…Никогда не знал, что делать? Знал да забыл? Или что ещё у него?..
Сбежался народ. Еле отбили Дарью от Митьки-интеллигента!..
Курильщики
Никак не могли меня мать с отцом заставить бросить курить.
Я и сам был не против, но… Сам с собой совладать не мог.
…А тут гуртуются около Ванькова палисадника парни. Курят.
Пасха! Солнечно так. Все нарядные и весёлые. Меня зазывают к себе. Свернули и мне «козью ножку» из газеты. Я закурил. Стою фасонисто, дымлю.
Вдруг как жахнет! Они, паразиты, в махорку добавили мне пороху! Вот как! Брови мне опалило. Лицо в копоти всё. Сделали мне «козью морду».
Пошёл я отмываться к бочке с водой. А вослед мне Колька Лобастый, здоровенный парень, лет уж около двадцати ему было:
– Не серчай, Костя! Отец твой, Гордей, больно уж сокрушался, что куришь. Пособить просил, отвадить тебя. Дал нам на всех махорки авансом… порох мы сами нашли. Мы и пособили. Старших слушаться надо!
Все стоят, смеются – и кто курит, и кто не курит…
…Может, то, что бросил курить, спасло мне жизнь.
Когда уж был в плену в Норвегии у немцев, строили мы железную дорогу. Взрывали скалы и делали площадку для шпал. Поскольку работа тяжёлая, нас как-то ещё кормили. В день давали двести пятьдесят граммов баланды, в основном из брюквы, часто нечищеной, сто пятьдесят граммов хлеба, около пятнадцати граммов маргарина и обязательно… одну сигарету.
Те, кто некурящие, скрывали это. Свою сигарету отдавали за маргарин курящим. Получалась у них двойная порция маргарина. Так и я поступал, некурящий. Тому, кто не курил, получалось, хоть что-то попадало в организм из жиров, они ещё как-то держались.
А курильщики быстро сдавали, у них двойная порция отравы получалась…
Как таскать камни, когда еле ноги передвигаешь? Когда смотрит на тебя охранник, стараешься двигаться с камнем в руках. Как только отвернётся, останавливаешься передохнуть. Надо было уметь вовремя начать движение, когда охранник вновь посмотрит в твою сторону. Не всем удавалось это…
Охрана в этом лагере не зверствовала особо. Вольнонаёмные у немцев были, из местных. За свой паёк служили. Помогали бедолагам по-своему… Грузили, которым не по силам была работа, на посудину человек по тридцать-сорок, выплывали чуток в море и сбрасывали. Помогали, как они говорили, отправиться на морской курорт. В основном курильщикам…
…Разных помощников повидал я на своём веку.
План
Отец мой рассказывал:
– Была одна такая, больно уж активная, из комитета бедноты в нашем селе, Веруня. Руководила раскулачиванием. У нас-то в селе вроде норму выполнили, так она в соседних сёлах помогала. Привела подводы с раскулаченными-то в Кирсановку, недалеко от нашего села. Там у них вроде сборного пункта было. Идёт вдоль повозок, а там бабы, ребятишки, зарёванные, всякие… Шагает так, больно-то не глядя на людей. А тут поднимает глаза, на подводу-то: её мать, отец, младшие сестрёнки, братишка сидят…
– А вы как тут оказались? У нас же одна лошадь…
– Дак, дочка, раскулачили нас… – отвечает отец. – Пока ты раскулачивала на стороне, нас тоже того… под одну гребёнку. Дали, проговорился сопляк этот, Стёпка Синицын, какой-то дополнительный план, мы и попали в него! Как вот Сарайкины с Мошниными, Зотов, Корней Остроухов…
Подарочек
Замаялась я совсем. Никак не думала, что так всё обернётся.
Со мной ведь что случилось?
Лет десять назад у чалдонки этой, Анфисы, муж погиб. Мы тогда в одном ЖКО работали. Поехал он на аварию, а у них там колодец канализационный и ухнул. Двое из них провалились под землю. Её Михаил обварился сильно. От ожогов в больнице умер.
…И времени-то прошло совсем ничего, а она мово Николая и присмотрела. Как бычка на верёвочке, увела от меня к себе. Может, у них и раньше что-то было. Она видная, чёрненькая такая. И оторви – да брось…
Квартира хоть и Николая, а он махнул рукой: «У Анфисы своя двухкомнатная и ребёнок один только». Ушёл, ничего не взял.
Остались мы с дочкой одни. Сначала-то я тужила очень, потом смирилась. А года-то идут. Они оба перевелись на другое место работы. Мне уже и не за тридцать, а пошло за сорок пять… Возраст бабий такой… Хвори, какие положены с возрастом, какие не положены… всё в кучу.
А врач-то и говорит: «Нормальная вам супружеская жизнь нужна, а у вас её нет, вот и проблемы… Думайте…»
Хорошо сказать: «Думайте!..»
…Стала я потихоньку молиться. Просить ангелов небесных, чтоб муженька хоть какого-никакого помогли мне обрести… Молили чтоб за меня… Про бывшего-то своего Николая я и думать сто лет перестала…
И, наверное, либо грешна в чём-то сильно, либо что не так сказала в просьбе своей? Али они что напутали в списках своих каких. Помочь-то помогли, но как?!.
Возвращаюсь 8 марта с работы, а у моего подъезда мой бывший муженёк Николай сидит. Смирненько так, на лавочке. Рядышком какая-никакая его одежонка кучкой. Улыбается детской такой невинной улыбкой, никому… так, всем сразу. А мне передавали раньше, что у него с головой что-то стало. Ну, эта болезнь, я всё путаю название: когда мозги отказываются работать… Анфиса так его закружила, что ли? Или что. Она безудержная, с ней вместе быть – с рельсов съедешь… Пил он сильно…
Что делать? И тут она не по-людски, Анфиса-то, с издёвкой…
Подарочек, мол, прими…
Взяла я его вещи и повела в квартиру. Квартира-то его, ему принадлежит, Анфиса знает, что не выгоню. Попользовалась муженьком моим и… вернула… Больно, видать, я сильно просила, что тоже негоже… И не только своего ангела-хранителя просила. Ко всем взывала. Они и постарались. И, признаюсь, ничего хорошего-то Анфисе не желала. Разлучница ведь…
…И началось у меня… Он же совсем как маленький ребёнок – не понимает, что, когда, где… Только иногда голова заработает… и тут же провал. В больнице нашей больше трёх дней не держат таких.
Дочка приезжала к нам, не смогла неделю прожить вместе. То нервничает, то ревёт.
Я из дома стараюсь надолго не уходить, одного боюсь его оставлять…
На той неделе вздумала с ним съездить на экскурсию. Группа собралась, погрузились в автобус. А он не соображает же…
Неожиданность с ним случилась тут же, в автобусе. Как младенец… Дышать стало нечем… Кто шумит, кто, заткнув нос, молчит деликатно. Но таких мало. Что делать? Выдворили нас из автобуса. Морока.
Как быть дальше? Выхода не вижу… И жалко его…
Белый теплоход
Захотелось глотнуть чистого кислорода, и я нырнул с городской самарской улицы в художественный салон, что на Молодогвардейской. Не успел в зале сделать и трёх шагов, как передо мной возник человек:
– Ба! Вот уж не ожидал! Сколько не виделись!
Смотрю с удивлением на говорящего. Невысокого роста, опрятно, хорошо одет… Вот лицо… Лицо бомжа… опухшее, щетинистое, выцветшие глаза…
– Ты не гляди: я завязал с прошлым. У меня теперь дел невпроворот! А ты? Твои вещи здесь есть? Я ценил тебя. И очень…
Он явно путал меня с кем-то. Пытаюсь разрулить ситуацию:
– Я не занимаюсь…
Не даёт договорить. Происходящее похоже на какую-то интермедию. Или розыгрыш…
– Знаю, знаю! Мне говорили, что ты забросил всё… Но какие были наши фотовыставки! Помнишь: одна за другой! В Нижнем Новгороде?! В Саранске!!!
Слава Богу, думаю, хоть кое-что прояснилось. Оказывается, он и я – фотохудожники. А он как будто чем-то только что подзаряжён, не стоит на месте. Ходит вокруг меня. И по-свойски мне:
– Ничего, Борис, я это тоже перенёс, пережил! Творческий спад, запой… известно всё…
«…Меня он называет Борисом, а мне и спросить, как его имя, уже как бы неудобно», – неуклюже соображаю про себя.
А он вводит меня в курс дела:
– Ты помнишь, – он называет какую-то фамилию, я не расслышал, скороговоркой, как если бы мы все были давними корешами, – он же у меня в Ширяево последние два года жил. Сначала я его козьим молоком отпаивал. У матери моей коза была. Ну и… кормили его. У него же ничего не было. И он как бы никто. Эти мастодонты из Союза художников близко его к себе не подпускали.
И тут началось. С год он работал неистово. Набросился на работу, как с цепи! Не по-человечески. Только спал, остальное время писал. И этого… ни грамма. Я ему только овощи таскал, молоко. Мясо совсем не ел. Всё у нас заставил в пятистеннике картинами.
…А потом враз уехал. В конце 90-х в Германию, а после оказался в Австралии. Картины забрал с собой.
И хоп! В Австралии стал самым известным художником. Выставки, репродукции… Разбогател! Он мне писал об этом, а я не верил… Как поверишь?
Я слушаю худого, с вывернутой вовнутрь левой рукой человека и нахожусь в смятении: что всё-таки это – розыгрыш, блажь? И почему со мной? Но отойти от говорящего не могу. Доверительный тон, наше, по его мнению, общее прошлое к чему-то меня обязывают…
А его захлёстывает случившееся:
– …Но годы… И эта жизнь его, когда бедствовал… Короче, не стало полтора года назад Анатолия. А родственников у него почти нет… Опять: хоп! Оставил мне по завещанию наследство – три миллиона евро и двадцать картин. Таким оказался Анатолий! А мне уже и деньги не нужны. Чувствую: недолговечен я… Куда их? Туда, где все будем, даже ржавого гвоздя не возьмёшь. Ну, съездил в Сидней этот, где он жил. Голубые горы. Пляж Менли. Всё замечательно! Но у меня другое. Сколько мне осталось жить? Ну, не более пяти лет… Из них около года понадобилось, чтобы с наследством всё оформить. Тягомотина!
…Я слушаю сказочника, как я его про себя назвал, и жду, чем всё это кончится. И не хочется, чтобы сказка разрушилась, как песочный замок… И… ну, есть же границы фантазии?
– Как-то с пользой надо бы распорядиться деньгами-то, – говорю, желая увидеть, как он будет продолжать сочинять…
– А я распоряжусь! – отвечает. – Хочу успеть (если заслужил), успеть построить на эти деньги в селе Ширяево детский дом. И купить для дома белый теплоход. Волга-то, вот она, рядом… Пусть ребятишки радуются!
Этими последними словами он меня совсем обезоружил. И покорил! Стало совестно за моё неверие.
– А почему обязательно белый? – глуповато уточняю услышанное.
– Так хочется! С детства мечтал плавать на таком по Волге капитаном. Да, видишь, рука у меня после перелома какая… Ты же знаешь эту мою историю.
Взгляд его остановился на мне. Пронизывающий такой… После некоторой паузы сказал убито:
– Но время! Время летит! Успеть надо сделать что-то настоящее! Ты же хорошо маслом писал когда-то. Что фотография?!! Вот! – он разжал поднятый до уровня своего подбородка кулак: – Время, как вода сквозь пальцы! Время пожрёт всё! Помнишь Державина? «Река времён в своём теченье // Уносит все дела людей…» А искусство вечно!
Смолк. Передохнул. И призывно уже:
– Напиши холст «Время и мы». Чтоб много было белого и голубого! Это тебе будет не «Чёрный квадрат» Малевича! Это сосем другое!.. Ты смог бы!
…Когда он ушёл, я спросил работника салона, сидящего за столом у компьютера:
– Кто это?
– А что?
– Да, чумовой какой-то. Так мне показалось.
– Не знай какой, но он заказал для одной из школ в подарок три картины, каждая более пяти тысяч стоит. Сказал, завтра приедут – заберут. Вон в сторонке стоят, оплаченные…
– А можно фамилию его узнать?
– К чему вам? – холодновато отреагировал работник.
– Ну так! Загляните в базу данных, – я кивнул на компьютер.
И получил своё:
– Зачем это? Он сказал, чтоб было всё конфиденциально.
И кто вы такой?..
Сиреневые колокольчики
Я тогда уже пятый год вдовой жила. Сыновей попереженила давно. Разъехались они. Живу одна, шестой десяток пошёл…
Всё бы ничего, но дом на отшибе в посёлке. Боязно порой одной-то.
И по хозяйству без мужика не так ладно всё, как могло быть… Вот меня и познакомил с Леонтием муж моей двоюродной сестры Миша. В детском садике, где я когда-то нянечкой работала, они оба стихи читали ребятишкам. Сошлись мы с Леонтием. Я с самого начала условие поставила: только не пить! Не хочу на старости в пьянке жить. Леонтий условие принял.
Старательным таким Леонтий-то оказался. Перед домом у калитки площадочку вымостил. Осенью все яблони обрезал, какие старые очень – совсем спилил. И в доме светлей стало, и во дворе. И так порядок постоянно наводил во всём. Чистюля. Каждый вечер, как спать лечь, ноги обязательно моет. Иной раз, если в доме моль увидит, не успокоится, пока не прихлопнет. Но временами срывался и запивал. Замыкало что-то в нём. Плакал пьяный. Мало совсем о себе рассказывал. «Нечего, – говорил, – вспомнить. А как что вспомнишь, голова болеть начинает…»
У него случай был. Как он говорил, работал сварщиком на электростанции и упал с высоты, с тридцати метров аж…
Падал, говорил, как-то поэтапно. Цеплялся за что-то несколько раз, то там, то тут, одеждой. Ну и получил сотрясение мозга, руку сломал, два ребра.
…Деньги мы не делили. Он приносит свою пенсию, кладёт в шкаф на полку. Я приношу – на ту же полку кладу. Соседка моя, Нюра Мижавова, позавидовала: «Везёт: третий мужик у тебя». Она всему завидует.
Знала бы, как мне дались первые два. Помучилась. Она недавно дом-то рядом купила. Издалека откуда-то.
Я всю жизнь то нянечкой, то воспитательницей в детских садиках проработала.
На пенсию ушла, а всё около детсада «Мишки», тут у меня через дорогу. Кружусь. Там помогу, там что-нибудь по мелочи… Вот его стихи, Леонтия-то, раздавала. Читали деткам, очень нравились.
…А через год у Леонтия книжка целая вышла для детей. Было в ней одно стихотворение, где мне очень нравились две строчки:
Вечно солнышку светить,Если будем всех любить!Это стихотворение называется «Сиреневые колокольчики».
Оно и о природе, и о войне. Мы-то в детстве с подружками так любили по весне ходить за этими сиреневыми колокольчиками. Лес-то рядом совсем.
До сих пор вспоминаю эти денёчки. Иной раз во сне колокольчики приснятся – и позванивают из детства!..
…А тут как обухом по голове. Не придумать страшнее. Миша рассказывал мне: приглашают председателя ихней областной организации писателей в обком партии и спрашивают:
– Вы кого печатаете? Фашистского пособника! Гестаповского палача!
Оказывается, на Леонтия пришла бумага из соседней области.
А в ней такое… свихнуться можно. По ней Леонтий родился и жил до войны в Поволжье, по соседству с немецкой колонией. С детства знал немецкий язык. Когда началась война, его определили в армию переводчиком. Он и попал в плен.
Немцы зачислили его в эту, в зондеркоманду. Потом направили в Грецию, в команду, которая занималась уничтожением греческих партизан.
Расстреливали целыми семьями. Детей бросали живыми в костёр. И во всём этом, получалось, Леонтий – прямой участник.
После войны за то, что был в услужении у немцев, Леонтий отсидел десять лет.
Приехал сюда и жил на квартире у одной старушки в посёлке, недалеко от города.
Незаметно жил, пока не начал писать стихи и печататься.
Вот как!
…Председатель-то пригласил потом Леонтия к себе в кабинет, спрашивает напрямую:
– Служил у немцев?
– Служил, – отвечает Леонтий.
– В расстрелах участвовал?
– Вам же бумагу прислали. Что спрашивать? – так вроде Леонтий отвечал. Мне Миша рассказывал.
Председатель долго тоже не стал разговаривать:
– Ну, раз эдак, то вот что скажу: стихи запретить писать вам никто не сможет. Но печатать мы вас не будем. Точка!
Я говорю брату Мише:
– Как же так? Каратель, и такие стихи хорошие? Не верится.
А он мне:
– Талант – он как чирий! Может и на заднице выскочить!
А тут утечка произошла. По посёлку про Леонтия слушок пошёл…
Что же делать? Как быть? Ума не приложу: полицай в моём доме? Жить-то как вместях?
Леонтий-то пропал сразу. Не появлялся у меня. Всё решилось враз. Пришла домой – его вещей нет. Туда-сюда. На столе записка: «Уехал. Прости».
И всё! Куда? Чего?
Он даже деньги в шкафу не тронул. Вот ведь?..
…Я до сих пор не могу его представить палачом. Слово-то какое? К нему не идёт…
Вот умом допускаю: документы есть. И всякое другое… Сидел опять же… Судили…
А сердцем никак. Не принимает сердце… А вдруг ошибка? Не соединяется во мне всё в одно целое. С этим теперь и живу…
Недавно ездила к той старушке, у которой он жил до меня.
Может, думаю, что узнаю о нём. Увижу.
«Нет, – шамкает хозяйка, – как съехал в тот раз, больше его не видала. А ты кем ему приходишься? – спрашивает. – У него, сердешного, ведь никого, как знаю, не было».
Дожить до весны!
Говоришь, в голодные годы твой дед с семьёй уехал в Сибирь, и потому все они остались живы? Случалось и такое… Только с нашей-то семьёй по-другому было. Если б только с нашей…
– Вы хорошо помните те годы? – спрашиваю. Лицо старика трогает вялое подобие усмешки:
– Ещё бы! В памяти такие зарубы остались…
– Могли бы рассказать? – спрашиваю.
– Мог бы, только не сейчас. Неважно себя чувствую после операции. Недели через две, может быть…
* * *…Старик рассказывал несколько вечеров. Я редко перебивал его вопросами. То, что я услышал от него, сидя вместе с ним в скверике во дворе, меня выбило из равновесия. Я несколько дней приходил в себя. Не мог ничем заняться сосредоточенно, пока не понял, что надо услышанное записать. Перенести на бумагу. Не мог носить в себе…
…Рассказ его я, как сумел, сгруппировал, удалил из него повторы… Нигде и ничего от себя… Местами опустил подробности, которые показались мне неимоверно дикими… Всплывали в памяти отрывочные сведения из архивных документов. Но передо мной был живой свидетель…
«Видишь ли, в некоторых уездах Самарской губернии в 1920 году не выпало ни одного дождя. Поля и луга на глазах выгорали. Появились полчища саранчи.
Уже в 20-м году у нас в деревне начали есть жёлуди. Ели их пока наполовину с мукой, потом с мякиной, лебедой. Ещё с репейником этим.
…И 21-й год оказался таким же засушливым. Так много стало пожаров. Горели леса, горели деревни вокруг. А тут холера! Тогда говорили, что она пришла из города. Наступил форменный мор.
Мой родитель с зятем Николаем поехали в Уральск на двух подводах за продуктами. Они не вернулись живыми. Нашли их убиенными, когда, значит, они уже возвращались. Недалёко нашли, тут, за околицей. Лошадей увели. Продукты пропали тожа…
Я догадывался, кто это свершил, седёлку нашу опознал. Но куда с этим? Пришибут только…
…Все, кто мог, к концу 21-го года гужом потянулись кто куда.
Кто на скрипучих телегах, кто в кибитках, кто как… Мимо нашей деревни день и ночь шумели повозки, мычали коровы, тянулись верблюды…
Плач детский и стон взрослых слышались отовсюду.
Пошло страшное воровство. У кого корову, у кого овцу уведут со двора. И зарежут.
И нашенские уезжали.
Мама у нас года три уж как умерла. Вдвоём мы с сестрой Настёной остались. А она на сносях. Вот-вот родит. Куда мне деваться из деревни? Всё на меня легло, на двенадцатилетнего парнишку.
А мор продолжал косить народишко. Ели корни и камыш. Разные мослы, которые много лет валялись в пыли, начали сушить и тереть. Получалась костная мука. Ели речной ил, глину…
Так было и у нас, и в других местах. Дети и взрослые ежедневно ползли в помещение сельсовета с милостью дать хлеба. Кто высохший, как скелет, кто до безобразия опухший.
С наступлением холодов ни травы, ни кореньев не стало. Поели почти всех собак и кошек. Ели всё, что казалось съедобным.
Тут уж начали вымирать целыми семьями. Обезумевшие родители бросали замерзать своих детей на морозе в поле.
Пока земля не замёрзла, как-то ещё хоронили. И то не везде.
Уцелевшие, одичавшие собаки растаскивали трупы. В нашей деревне умирало человек по шесть в день. Маленькие дети от голода грызли себе ручонки. Их связывали.
Начали есть древесные опилки, размалывали ветки молодняка. Спасало не надолго. Болели и мёрли.
…Тут зачали воровать трупы с могилок. Перестали приносить умерших детей на кладбище, оставляли для еды.
Я раньше читал тогда, что людей едят. Но это там где-то, за семи морями, а тут у нас…
Меня спасали мои ноги. Я был бегун. Утащу что-нибудь съесть!
И лови меня!.. А как обессилел, плохо стало.
Разок срезал у Родичевых в сельнице гужи у хомута, а они не поддаются. Сколько ни варил, ни в какую… Твёрдые и хомутом пахнут.
Другое дело, когда у них отелилась корова. Место, ну этот, послед, они повесили на переруб в сарае. Я его и умыкнул. С мясцом мы оказались с Настёной. Но когда это было? Чуть не год назад ещё.
Бояться я начал, когда плохо стал двигаться. Как бы не прибили. Доступным оказался…
…Разок братья Зуйкины пожаловали разбираться. Я у них из погребицы меж делом капкан стибрил. Придёт весна, думаю, вдруг суслики ещё остались…
…Уже сумерки наступили. Они к мазанке нашей направились.
Один из них с лопатой. А я уже давно почувствовал, что они меня пасут. Перебрался ночевать в сарайчик. Пока братья в избе были, я ползком к Дунькиному оврагу. А сил-то нет, как раньша… Ткнулся в кусты сирени на полпути передохнуть. Эта сиреневая кулишка и спасла меня. Лежу и вижу перед носом два черепа человечьих и кости разные. Вспомнил, как летом ещё отца с сыном Кичайкиных здесь видел брошенными. Они это.
Мне бы вскочить, да – к оврагу! А не могу, прижало к земле…
Всё же скатился я под уклон и поколтыхал, подальше от дома.
Настёну они не тронули.
А вскоре старший из братьев Зуйкиных отравился, не знай чем…
* * *…А тут роды у Настёны. Сосед Степан принимал. Кому жа ещё?
Все, кто рядом, немощные.
Пуповину дядька Степан резал отцовским сапожным ножом.
…Настёна умерла после родов как-то быстро. Отвезли мы её со Степаном в амбар. Земля уж как железная была. В амбаре том складывали людей до весны, когда земля оттает.
Через неделю после матери умерла и девочка. Как ей жить? Я её одной водой с ложечки кормил. Не знал, что делать, советоваться не с кем. Степан тожа помер.
– Как помер? – спрашиваешь.
Расскажу.
В соседнем селе утром толпа голодных, человек в сорок, подвезла на салазках к дому волостного председателя разрубленный труп, взятый из такого же как у нас амбара. И потребовала хлеба. Заявили твёрдо: если не будет исполнено их требование, они съедят и самого председателя.
Труп члены совета у толпы отобрали.
Что повлияло, не знай!.. Только и у нас вскоре, и у них стали раздавать кукурузу. Говорили, навроде того, американскую. По четыре кило на человека дали. Вот Степан и наелся досыта. Закупорка получилась у него. Живот и лопнул.
А со мной-то как было?
Как раз повезло мне. У Сироткиных солдаты стояли. Я у одного в мешке кусочек сальца и нашарил. С кукурузой его ел. Эта вот смазка спасла меня.
К тому времени я уже знал, что нельзя много есть костной муки. Нельзя употреблять овчину. Был опыт…
* * *…Надо девочку хоронить, как положено. А как? Пойду, думаю, к дядьке Илье в соседнюю деревню. Они с отцом когда-то знались. Вместе их призывали на войну с германцем. Он вернулся в село потом с простреленной рукой. Это уже было в гражданскую.
«Может, повезёт чем поживиться у них, а может, по дороге где?» – так я думал.
Дотащился до села, а без толку. Все у них еле двигаются. Топят одну избу поочерёдно с соседями на пять дворов. Где натопят, туда и сходятся греться. Лежат вповалку, еле живые. Дядьки Ильи дома нет.
Что оказалось-то?
Когда стало совсем нечего есть, они съели умершую у них квартирантку из Грачёвки, кажется, Ручникова фамилия её была. Когда съели, дядька Илья послал свою бабу в совет, чтобы она, значит, сказала, что едят человечье мясо. Сделал так, чтобы его двух ребятишек приписали к общественной столовой. Увезли дядьку Илью в Самару.
Очень он просил дать ему хоть какую-нибудь работу. Говорил, везите хоть куда, только чтоб можно капельку какую заработать детишкам из еды. Он умел работать.
У него ещё в 20-м году было крепкое хозяйство: пять лошадей, три коровы, овцы. Две лошади увели белые, потом в засуху двух съели волки. Остальное сами проели.
* * *Когда я возвращался домой, решил сходить к нашей родственнице Агафье. Она на дальнем конце улицы жила.
Иду, значит, к Агафье и оглядываюсь. Боязно. Она малость чокнутая была. И это ещё… двусбруйная, то есть ну… и баба, и мужик – так говорили.
Я её у нас в доме раза два видел. Лицо мужичье, а так навроде женщина… Её больше Агафоном звали, промеж собой-то.
Иду по переулку как могу. А пороша выпала. Светло так! И никаких следов на снегу.