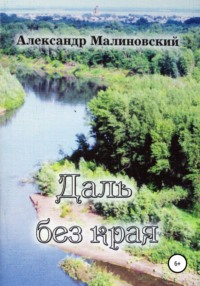Полная версия
Голоса на обочине
О главном? Я и сейчас не смогу сказать, что со мной случилось. Появление Лены меня ввергло в смятение… Что это было? Любовь? Не знаю. Она мне стала сниться с первого дня, как её увидел.
Там недалеко от офицерского общежития было кафе. Называлось оно «Солдатская чайная». Мы туда с ребятами забегали. Когда она встречалась мне, я делался деревянным. Она, кажется, поняла про меня что-то, и у неё на лице появлялась такая… полуулыбка при встрече…
Настал день, когда мы впервые поприветствовали друг друга при встрече. Она сказала мне как-то прожигающе просто: «Здравствуй!» Как я обрадовался, что шёл один! Это только мне одному так было сказано! Она прошелестела тихо и невесомо мимо меня, а я только-то всего глупо поднял молча руку. Будто честь отдал…
Она ходила в первые дни по городку больше в белом платье, которое просвечивалось на летнем солнце почти насквозь. Зачем она его надевала?! Я зажмуривался. Не смел смотреть, а солдатики-ребята оборачивались, глядя ей вслед… Иногда отпускали резкие словечки. Безобидные. И не очень. Я внутренне негодовал: как они смеют?! Я успокоился, только когда увидел её в плотной тёмно-вишнёвой юбке и в розовой кофточке. Получилось такое вишнёвое пятно на нашем серо-зелёном армейском поле. Лицо у неё было особенное. Такое родное, знакомое с детства… Очень похожее на лицо моей мамы. И глаза такие же светло-голубые. Как у мамы!
Мы начали при встрече вскоре обмениваться короткими фразами. Но я чувствовал уже, что этим просто так для меня наше знакомство не закончится. То, что происходило во мне, – неудержимо, не утаишь! А вокруг столько глаз… И этот её… Лисовский!
Он стал смотреть на меня при встречах, не мигая. Длинный, похожий на удава… Они были такие разные. Муж и жена… А я совсем мальчишка! Взял и положил Лене на подоконник букетик ромашек, крадучись, в сумерках… И записочку приткнул в приоткрытое окошко. И получил от неё что-то вроде обидной выволочки на следующий день: «Алёшенька, не надо больше. Я скоро уеду, и всё у тебя пройдёт… Ты просто ещё ребёнок. Чистый и невинный. Для всех, Боже мой, то, что происходит, так… нехорошо. Молодая офицерская жена и солдатик… Будь взрослым… прошу! Я боюсь… Он на всё способен».
Я слушал её, и мне казалось, что мы это не мы, а персонажи какого-то старинного романа… И не понять: глупого или какого. И про мужа сказала, как про средневекового злодея. Напугать меня хочет? Ещё пару недель назад мы не могли сказать друг другу целиком фразу, а сейчас она назвала меня Алёшенькой и говорила о таком, что у меня голова шла кругом. И мы прятались во время этого разговора от посторонних глаз за длинной стеной общежития. Под окнами. Мы были заговорщиками, сообщниками… Нас уже объединяло нечто. Я перестал спокойно спать…
Теперь я писал стихи не только ночами. Весь был погружён в нервный стихотворный плен. Я понимал, она скоро уедет. И то, что её скоро не будет здесь, ещё больше меня волновало.
В глубине сознания мерцало: «Вот Петрарка, Лаура!.. Другие времена? Пусть я не гений! Конечно, не гений в поэзии. Но как я чувствую! Какое во мне сокровище! И никому этого не надо?!»
…Я вложил в конверт три стихотворения, написанные накануне, и начертал письмо. В нём я уверял её, что для меня самое главное – иметь возможность называть её солнышком. Что я счастлив уже тем, что люблю! Только пусть солнышко будет каждый день. Пусть для неё это не имеет никакого значения, но я благодарен ей за то, что со мной происходит… И пусть я жалок в её глазах… пусть! Мне всё равно!..
Послание своё я вложил, как и прежнее, в щель между рамой и карнизом её окна. Романтическое, наивное время было. И какое бесценное!
…Она не ответила на моё письмо. Ни письменно, ни устно. Я и тогда полагал, а теперь почти уверен, что письма этого она не видела. Попало оно в руки Лисовскому.
Дальше случилось то, что раздавило меня…
Дня два я Лену не видел, даже издали. И вот наступил тот день, вернее вечер… Прошёл ливень. Течёт со всех крыш. Ливня уже и нет, а идёт дождь. И вокруг тёмная мокрая мгла.
Прибегает посыльный в казарму:
– Голубев! Срочно в медпункт!
– Что? – спрашиваю. – У Сидорчука осложнения?
– Нет, гной весь вышел, уже и рана затягивается. Он ходил сегодня к Водолазову. А тот: «Чё, говорит, ходишь, если к лучшему?»
– Кто же?
– Лисовский этот! С женой.
…Когда я вошёл в медпункт, Лисовские были там. Лена сидела на кушетке, старлей у стола. Я не успел ничего сказать.
– Лена, раздевайся! – стальным голосом произнёс Лисовский.
– Женя, – голос у неё с надрывом, – может, всё-таки не надо?.. Не здесь! В госпиталь?
– В какой госпиталь? – металл в голосе его звенел.
Я посмотрел на Лену. Лицо измучено, необычно бледное.
– У Лены, возможно, температура, – попытался вмешаться я.
– Да, тридцать девять! Вот поэтому здесь всё и сделаем. У неё истерика была. Куда ей такой ехать?
– Жаропонижающее принимали? – спрашиваю.
– Только что, – последовал ответ Лисовского.
– А Водолазов где?
– Я его выставил! Не хватало, чтоб завтра весь городок хихикал. Ты – другое дело. Тем более – уникум. По крайней мере так говорят.
Наступило молчание. Потом он вновь скомандовал:
– Я сказал! Раздевайся! Сколько ждать?! Мы же договорились, – обрушился он на жену.
– Отвернитесь! Оба! – отозвалась почти истерично Лена.
Я стал смотреть в окно. Лихорадочно пытаясь понять происходящее и необычно волнуясь. При мне раздевалась женщина. Такого со мной ещё не было.
– Мне холодно, – послышался голос Лены.
Я повернулся. Она лежала на кушетке в одном бюстгальтере, вытянувшись на спине. Я не мог смотреть. Меня слепило её большое, будто восковое, тело. Лена казалась мне здесь, в небольшой, тускло освещённой комнате, античной богиней. Не скульптурной, нет. Вся наполненная живым теплом!
«Богиня» шмыгнула носом. Я молча подал ей, чтобы укрылась, простынь.
«Но как я буду делать? Это для меня впервые», – крутилось в голове.
– Товарищ старший лейтенант, я никогда абортов не делал.
– Какой аборт?! – взорвался Лисовский.
Он выхватил из кобуры пистолет.
– Эскулап! Тоже мне… Смотри! Там другое… Внутри!
…Я подошёл вплотную к кушетке. Убрал с ног Лены простынь… И склонился над развилкой её длинных ног.
Было темновато. Невольно поднял голову…
Лисовский, поняв меня, опередил:
– Вон же! Справа настольная лампа, включи и пододвинь!
Я повиновался.
Когда трогал лампу, с тумбочки упали на пол узенькие розовые женские плавки. Меня дёрнуло, будто током.
…Кажется, я начал терять координацию движений. Я впервые видел перед собой так откровенно обнажённое женское тело.
Лена смотрела, не мигая, в потолок. Боясь встретиться с ней взглядом, я невольно пошатнулся в сторону. Лена догадалась закрыть глаза.
…Лампу я включил, но этого было мало. Мне надо было…
Я почувствовал, что весь мокрый. Лоб, меж лопаток… А главное – руки, повлажнели ладони… Я не мог произнести нужные слова…
– Мне надо, ей надо… – мямлил я.
И тут Лисовский чётко, безоговорочным тоном распорядился:
– Солнышко, надо ножки…
«Солнышко!» – повторилось в моём сознании. Меня обдало жаром. Он так назвал её специально? Он потешается надо мной? Над нами? Получается, он читал моё письмо к Лене. Он намеренно не повёз её в госпиталь? Решил меня высечь! Или её? Я был унижен им. Оба с Леной унижены.
Но Лена причём? Ей надо помочь! Это из-за меня всё!
…Но что от меня требуется? На какой-то миг я перестал видеть. Потом будто с глаз моих сняли пелену. Я упёрся взглядом в пистолет Лисовского, который лежал на столе…
«Сейчас схвачу! И всю обойму – в него! И в себя!» Я перестал себя ощущать, я был в невесомости… А может, на грани безумия!
Лисовский перехватил мой взгляд, взял пистолет и вложил его в кобуру.
Он подошёл к кушетке. Встав у Лены в изголовье, руками взял сверху её под колени. Приподнял ей ноги, потянув их на себя. Развёл свои руки с зажатыми в них ногами в стороны.
– Ну! Долго ждать? – он смотрел на меня своими дикими глазами.
Я вновь склонился над Леной.
– Я помогу, – проговорила она.
Её длинные пальцы скользнули вниз живота. Там они невольно на миг соприкоснулись с моими…
…Внутри, не сразу различимый, сидел, впившись накрепко в мягкую розовую тёплую человечью плоть, клещ. Он уже явно распух от крови. Был не тёмный, а несколько посветлевший. Вокруг него покраснение и отёк.
Я взял пинцет и скальпель…
…Когда всё было сделано, я опустился на стул у окна и одеревенело упёрся взглядом в одну точку в темноте палисадника. Отстранённо, будто издалека, слышал, как Лена одевалась.
– Не энцефалитный? – произнёс Лисовский. Не называя меня никак. Словно я послушно управляемый робот.
– Не знаю. Надо смотреть врачу-специалисту. Я его выкрутил полностью вместе с хоботком, но зараза могла пойти в кровь. Время терять ни к чему.
– Лёша, прости.
Я вздрогнул.
Лена стояла почти вплотную ко мне:
– Лёшенька, прости меня! – повторила она бесцветным голосом.
Я тогда не понимал и сейчас тоже: за что она просила прощения? За то, что было в медпункте? Или за другое?.. И понимала ли она сама, о чём просила?
Так мне до обидного дежурным показалось это её «прости».
Данью вежливости, что ли… Или она так боялась рядом стоявшего Лисовского?
К тому времени я уже начал догадываться, как одинок в своей жизни человек… И с моей впечатлительностью столько мне ещё впереди предстоит всякого.
…Они ушли. Так захотелось куда-нибудь убежать. Но куда?
Может, к Байкалу? Но где он?!
Продолжая сидеть у окна, я плакал… В голову вползла спасительная мысль: сейчас найду чего-нибудь и траванусь. Я… обрадовался этой мысли. Всему сразу развязка… я не выдержу моей такой будущей жизни… Я не готов к ней… И никогда не буду готов с такой моей нервной организацией…
С шумом ввалился Водолазов, задев у порога ведро.
– Лёх, что стряслось-то у них? Долго так!
– Да, заноза была, – с усилием собирая себя в одно целое, ответил я.
– У кого?
– У Лены в пятке.
– У тебя лицо в слезах! – хохотнул он.
Я нашёлся:
– От нашатыря. Она в обморок падала, а я… пролил…
– Добегалась! Они вдвоём с женой начальника части всё шастали вдоль Оськина оврага. То им грибы, то ещё чего!.. Теперь, гляжу, еле идёт. На плече муженька повисла, полуживая. Маменькина дочка, одним словом… От занозы – в обморок?!
Он ещё что-то сказал. И хохотнул. Мне было не до него.
* * *Больше Лены я не видел. На другой день Лисовский отвёз её в госпиталь, оттуда через пару дней проводил в Саратов. Об этом, ухмыляясь, сказал мне всё тот же Водолазов.
Лисовский вёл себя со мной так, будто вообще ничего не было.
Не замечал меня, делал вид…
А потом его перевели куда-то в другую часть… Он – не знаю где, она – тоже. И живы ли?..
Меня-то уже точно нет прежнего…
…Хирургом я стал. Циником тоже… Это – профессиональное.
Возвышенней и чище, чем с Леной, у меня потом уже ни с одной из моих женщин отношений не было…
Столько перегорело во мне тогда в одном коротком замыкании…
Правда
Спрашиваешь: страшно на фронте было, по правде? А как же не страшно? Живой, чай! Но когда опасность, некогда вроде и бояться. Начинаешь действовать, делать то, чему учили. Опять же по своей сноровке…
Правда – она то колючая, а то совсем не знаешь, как к ней подступиться…
…Помню миномётный обстрел, в первые дни, когда на передовую попал… Фриц как начал лупить! Мы врассыпную. Ещё и испугаться не успели…
Рядом ложбинка какая-то была, небольшая. Я – в неё. И тут же на меня ещё трое сверху. Придавили, дышать нечем. Я было задыхаться начал, рваться кверху. А тут мысль прожгла: «Стоп! Я так жив буду, прикрыли меня ребята собой…» Затаился… Даже как бы обрадовался… повезло… Съёжился, чтоб ничего не торчало…
…Смолкли взрывы. Двое, которые на мне лежали, – оба раненые, а тот, что сверху них, – мёртвый. Вот оно как… И стыдно, и вроде вины-то моей нет.
Санитары раненых и убитых подбирают, а я сижу целёхонький. И так не по себе…
Коля Меченый
Дружку моему Николаю на передовой не повезло спервоначала. При бомбёжке, смешно сказать, оторвало осколком ему краешек левой ноздри. А когда миномётный осколок надорвал ему мочку правого уха, ребята попритихли. Только нет-нет, да назовут его меж собой «Меченым». И правда ведь: меченый. У нас в селе так овец метят перед тем, как в стадо пускать, – ухо надрезают.
…А Николай стал настороженным каким-то. Задумчивым. Заметив, что ребята около него стараются долго не задерживаться, странно усмехался только…
…А тут идём втроём по нейтральной полосе. Вне зоны обстрела миномётов. И ему по нужде потребовалось, по лёгкой. Всего-то метров на десять отошёл от нас в реденькие кустики. И вдруг – как ахнет! Прямо в эти кустики. Поднялись и к нему. Голову у Николая, как лемехом, срезало. Лежат: отдельно он, отдельно голова его…
Пристрелочный, что ли, был выстрел, либо шальной снаряд этот. Больше-то не последовало. Всего один-единственный.
…Будто почуял Колька и вовремя отошёл от нас – беду отвёл.
На себя взял… Или совпадение?.. Как хочешь думай…
Такой случай
– Стали нас принимать всем классом в октябрята. А я отказываюсь. Не хочу.
Наша учительница Нина Ивановна внушает мне:
– Не волнуйся, я говорила с твоим отцом. Он тебе разрешает быть октябрёнком.
– Нет, – говорю, – пусть он об этом сам мне скажет!
И ушёл домой. Остальных Нина Ивановна повела во двор на площадку.
Шёл из школы и не мог понять, как мой отец священник мог разрешить такое. Значит, тогда Бога нет?
Оказалось, что отец ничего не знает. Моя учительница с ним не говорила.
На другой день я подложил ей кнопку на стул. Она сразу догадалась, что это моя проделка. Стала при всех меня стыдить. Что мне оставалось делать? Я сказал, что она врунья! В присутствии всего класса заявил.
Она оставила меня после урока одного и стала бить по спине, по рукам. Получилось так, что я ударился локтем о дверцу голландки, и у меня потекла кровь. Она, опомнившись, крепко испугалась. Выбежала из класса, оставив меня одного. Если б не кровь, досталось бы мне больше…
Она скрыла всё. И я ничего никому не сказал.
…Прошло более тридцати лет. В храме после службы подходит ко мне старушка:
– Батюшка, вы меня не узнаёте?
– Нет, – говорю, – не припоминаю.
– А я узнала вас. Я Нина Ивановна – ваша первая учительница. Помните приём в октябрята?
Тут-то я всё и вспомнил. Она рассказала о себе:
– Приехала я к младшей сестре, которая недавно стала жить в вашем городе. А она говорит: пойдём со мной в наш храм на службу, у нас такой батюшка!.. Один раз пришла, второй… Сегодня вот решилась подойти, открыться… Судьба моя оказалась тяжёлой. Всякое было. Больно уж я нетерпеливая была во всём… Упорная… А разума… Живу давно одна, дети разъехались – и как и не было их… Слава Богу, встретила вас! Хочу попросить прощения. Снимите давний грех мой с души! Я и раньше-то, как постарше стала, очень себя корила за свой тот давний поступок, но к кому с этим пойдёшь?.. Время-то… А я не такая сильная, как вы…
…Как всё переменилось вокруг, одиноко стало. В церковь-то и потянуло… Всё хотелось потом узнать, где вы? Слыхать-то слыхала, что настоятелем стали… А где? И тут такой случай!
«Ты такая нам не нужна…»
Я тогда медсестрой работала в больничке с отказными больными детьми. До перестройки ещё.
Узнали, что я собираюсь за верующего, сына священника, замуж выходить, стали «пужать» меня. Что только не говорили! «Он тебя ночами будет заставлять молиться. Истязать будет постами!»
Я упёрлась.
Тогда мне сказали, что я такая в больнице не нужна! Могу изуродовать слабые детские души. Что надо мне уходить, другую работу искать…
Я и ушла.
Поженились мы с Алёшей и уехали жить в другой город. Замужем я уже около тридцати лет. И дети есть, и внуки…
Где теперь те люди, где те детки, за которыми я ухаживала?
Неужто без веры живут? Беспокойно за них…
Сержант
Дело было в начале восьмидесятых. Получил я сержанта и прибыл, куда направили. В первый же день вызывает меня в красный уголок замполит.
Вхожу. Сидит он и ещё три офицера. Все смотрят на меня, как на музейный экспонат.
Замполит спрашивает: – Ты как к нам попал?
Отвечаю:
– Это вопрос не ко мне!
Майор повёл головой из стороны в сторону, явно недовольный ответом, и вновь задаёт вопрос:
– Но ты понимаешь, что тебе у нас служить нельзя?
– Почему? – спрашиваю.
– Ты же верующий. В Бога веришь.
– Одно другому не мешает, – отвечаю.
Он своё:
– У нас же ракетные войска!!!
Замполит привстал над красным сукном. Видно, что разговор для него необычный. Но глаза ленивые такие…
– И что с того, что ракетные? – говорю.
Майор вышел из-за стола, подошёл сначала ко мне, потом зачем-то к окну. Со значением посмотрел через оконное стекло в просторное небо. Вернул взгляд в мою сторону. И сказал наигранно, с усмешкой:
– А вдруг Бог даст тебе команду нажать кнопку и выпустить ракету? Или ещё чего такое? Что будешь делать?
Я искренне удивился таким словам его. Спрашиваю:
– Товарищ майор! И вы тоже верите в Бога? Верите, что такая команда может поступить?
Он опешил от такого вопроса. Подошёл к столу, сел. Лицо оживилось, сделалось красным. Молчит. И остальные офицеры молчат. Не ожидали такого…
…После этого разговора никто со мной из офицеров не затевал беседу о вере. А замполит, как мне показалось, внутренне зауважал меня.
…И среди солдат потом много раз попадал я под каверзные вопросы. И каждый раз ответ находился вовремя.
Будто кто помогал мне в этом…
С голода не пухну…
Когда началась наша всеобщая «прихватизация», и я попал под её каток.
Я – главный инженер главка. Под началом до двух десятков заводов. Что началось вокруг и около: голова кругом! Терпел, не зная, что делать.
…Пошёл на подпись поток передаточных ведомостей на оборудование по остаточной стоимости. Заводы готовили к передаче в частные руки. Схватился за голову: стоимости смехотворно занижены. Три ведомости подписал, больше не мог. Перестал спать ночами. Иду к начальнику главка:
– Виктор Аркадьевич, это ж грабёж государства, народа. Понимаем ли, что творим? Будто не заводы готовят к передаче, а колхозные слесарки!
– Там понимают, – показывает пальцем над головой начальник.
– Но почему я должен это подписывать?
– А кто? – спрашивает. – Не я же! Ты отвечаешь за оборудование, ты – технический директор. Там, – опять показывает на потолок, – всё согласовано. Понял?
Я всё понял. И написал заявление об уходе. Никаких бумаг больше подписывать не стал. Это последняя была. Так я стал безработным.
А механизм по лишению состояния ста сорока миллионов россиян ладился на глазах, а мы обескураженно все молча взирали. Приватизация!..
Вначале было обесценено громадное богатство Советского Союза. Затем население было поставлено в такое положение, в котором оно готов было, вынуждено любую собственность обменивать на хлеб, молоко и так далее. Есть что-то надо было… И любой протест против такого ограбления всего народа был в то время невозможен…
…Так в течение всего нескольких лет появились собственники нефтяных, металлургических, химических гигантов…
И теперь утверждения, с таким усердием внушаемые нам, что план и государственная собственность, – самое главное препятствие эффективного развития нашей страны, разбились опять же на наших глазах о личные интересы жирующих на народном богатстве.
Поворот к капитализму для нас, россиян, оказался чудовищным откатом назад. Мы сползли к недоразвитому капитализму…
…Почему об этом молчат? Неужели я умнее всех! Быть того не может!.. Тогда в чём же дело?..
…Вместо столицы оказался я за Уралом. Но никто меня не тронул. Долго, правда, не работал. Кругом красные флажки. Теперь-то работаю. Глава фирмёшки одной. Проектными делами занимаемся. И по прежнему профилю работы, и не совсем… Но с голоду не пухну. Сердечко вот только теперь…
Чернослив в шоколаде
Я зашёл в отделение почты у нас во дворе и, кажется, в неудачное для меня время. А, может, наоборот… Где б услышал такое?.. Оказывается, сегодня день выдачи пенсии. Мне всего-то нужен почтовый конверт. Народу битком… И до окончания обеденного перерыва около двадцати минут. Все спокойно ждут момента начала выдачи денег. Идёт неспешный разговор. Я притулился у косяка, почувствовав интересное. Начало разговора я не слышал. Захватил, видимо, середину его.
Рассказывает интеллигентного вида пожилая женщина. Мне она показалась похожей на бывшую учительницу.
– Ну что мне делать? Болезнь есть болезнь, надо прорваться к этому доктору. А я никуда никогда не прорывалась. Тем более так! Но всё ж решилась. За меня договорились. Меня доктор примет. Мне только осталось, как сказали, обязательно купить солидную коробку шоколадных конфет. Боже мой, коробку-то конфет я купила, большущую такую. «Чернослив в шоколаде» называется. Сама никогда не пробовала такой. Сто семьдесят два рубчика стоила эта моя взятка. Пакет пластиковый большущий дома еле подобрала. Сама иду в поликлинику, а всё думаю: «Боже мой, как же это я буду, старушенция такая, взятку давать? Ведь это ж… он же на государственной работе…» А за спиной, над ухом всё вдогонку усмешка моего зятя: «Ну что вы, Серафима Илиодоровна, уже какой год как перестройка! А вы всё по каким-то махровым принципам живёте! Давно пора перестроиться! А то не выживете так…»
Иду. Под мышкой, как крыло аэроплана, пакет такой большой с конфетами. Ветер на улице. Сумка парусит, я спотыкаюсь. И трушу… «А вдруг оскорбится? Мужик ведь! А я, какая-никакая, всё ж таки дама! Он же, наверное, в нашей нормальной школе учился. Доктор медицины, в любом случае не меньше меня, училки-пенсионерки, получает? Выставит за дверь ещё! Позору!.. В общем, иду, интеллигентка тощая, комплексую вовсю… Но, как велел зять, держу курс на перестройку: а то и впрямь… не выживешь теперь…
Не помню в подробностях, как я вошла в кабинет. А он, доктор, высокий такой, представительный. А у меня своё: «Неужели такие сейчас берут? Думала, какой-нибудь прыщавый будет, с наглым лицом…» Опыта у меня в этом деле никакого… Не обучены мы…
Как давать-то, думаю, с какими словами? Он чужое вдруг брать не будет, я ведь за работу, которую ему оплачивают, буду совать этот чернослив, будь он неладен!..
– Что же вы, проходите ближе к столу! – говорит и смотрит доктор не на меня, а куда-то мимо… Сам весь лицом смуглый, породистый такой. Лет сорока.
«Ну прям не доктор, – думаю, – а чернослив в шоколаде».
Шагнула я к столу… Не знаю, как у меня вырвалось:
– Доктор, тут вот вам…
И не успела я сама до конца вытащить из пакета коробку, как он ловко хвать её! И не сумела я ничего: ни договорить, ни сесть ещё, он – шасть! И за ширмочку, за занавеску – двумя быстрыми шажками, как в цирке. Оттренированно!.. Как между прочим. Легко так. А я вспотела вся… Меня больше всего поразило, как он шустро всё. Ну, думаю, такие как мы, верно, обречены на вымирание. Динозавры. Эта перестройка для таких вот, как этот…
Очередь молчала, внимательно слушая.
– И что, помог он вам? – с явным сомнением спросила дама у подоконника.
– Ну, где ж помог-то? Ещё раза три ходила с такими же коробками и поболее… И к нему, и к другим… Толку-то?!
…Окошечко на выдаче открылось, белокурая женщина лениво что-то сказала. Очередь колыхнулась и вновь замерла, зашелестели слова присутствующих. Но уже без внимания к рассказчице, которая повернулась к окошку.
Я вышел на улицу.
Митька-интеллигент
Говоришь, интеллигенция спасёт нас? Спорить не буду, может, и так…
…А я вот на прошлой неделе в своё село наведывался. Брательник рассказывал про Митьку-интеллигента. Есть в нашем конце такой. С детства чудачит. Лет под тридцать ему. Когда в себе, на народ, ну там в магазин, аптеку… ещё куда, обязательно выходит в шляпе и с авторучкой на груди в кармашке слева, будь он в пиджаке ли, в рубашке ли… Солидно держится. Это когда он в себе, а бывает иначе…
В тот день мать заставила его огурцы полить. Он вроде в себе был в этот момент, просветление у него какое-то… Огород у Косяковых к речке спускается, у самой воды. Пошёл поливать.
Надо же! Соседка вздумала искупаться. Искупалась, вышла без ничегошеньки на берег, а он у кусточков стоит, Митька-то. Смотрит.
Дарья ему:
– Чё лупишься? Не видел никогда бабу голяком? Не знаешь, что делать?