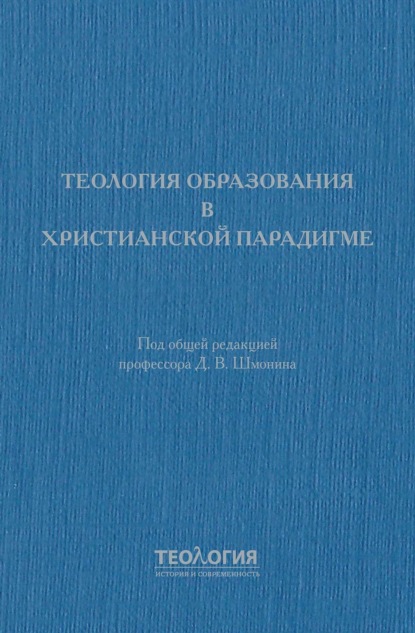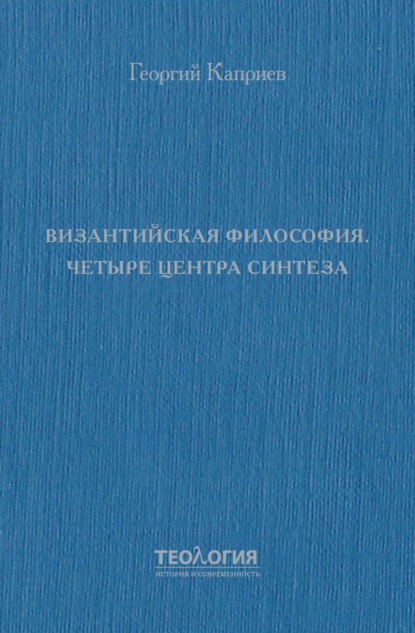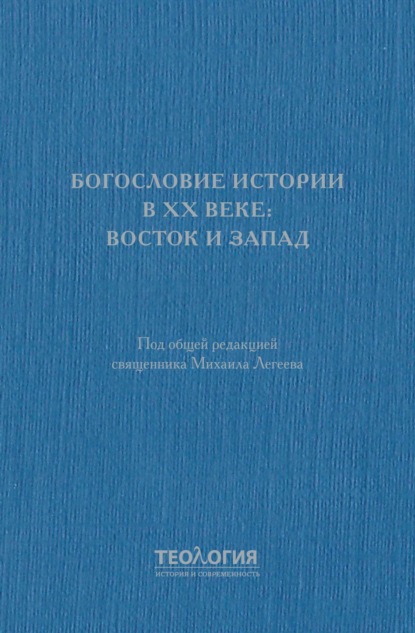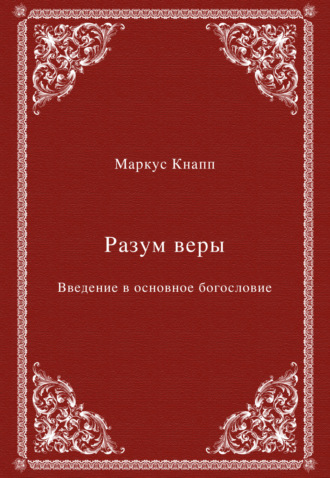
Полная версия
Разум веры. Введение в основное богословие
Это проявилось и у третьего автора, которому принадлежит особо важное значение в эмансипации апологетики в Новое время – нидерландского гуманиста Гуго Гроция (1583–1645), который в первую очередь считается отцом современного естественного права и родоначальником права народов (Niemann, 1984, 167–190; Heinz, 1984, 43–51; Biser, 1975, 26 след.). Он был автором и апологетического труда, а именно опубликованного в 1627 г. сочинения «Об истине христианской религии»[49], которое во множестве переводов широко распространилось по всей Европе и произвело большое впечатление. Новое и судьбоносное для дальнейшей истории апологетики обстоятельство заключалось в том, что Гроций четко отделил апологетику от догматики, т. е. от содержания христианской веры, ибо защиту содержания веры он считал невозможной. Целью его апологетики, вместо этого, было доказательство божественного источника христианства – если его происхождение будет возведено к Богу, то оно и будет основано на авторитете Бога. Требуемые доказательства Гроций, в соответствии со своим отказом от всякой содержательности, мог видеть исключительно во внешних критериях, о которых говорит Писание. Чтобы обосновать их надежность, он должен был оправдать достоверность Библии как исторического источника. Поэтому Гроций старался опровергнуть возражения, выдвигавшиеся против нее на протяжении всей истории. Целью его аргументации было с несомненностью представить чудеса Иисуса и Его воскресение как основание божественного происхождения христианства. «Иисус доказывается теперь – и здесь, несомненно, есть новая веха – уже не как “Сын Божий (Filius Dei)”, а только как “Божественный посланник (legatus divinus)”. Мотив Гроция состоял в том, чтобы объединить христианство в общем этическом праксисе без догматических раздоров» (Niemann, 1984, 190). Таким образом, он стоит у истоков строго исторического обоснования христианской апологетики, ядром которой является аргумент от чуда.
Такая стратегия аргументации в дальнейшем, начиная с XVIII века, была проблематизирована появившейся библейской критикой. Историко-критическое исследование библейских текстов выявляло в них противоречия и неправильности, систематически подрывая уверенность в том, что мы имеем дело с надежными источниками Божественного откровения. Это укрепляло деистическую точку зрения в стремлении ограничить религию ядром необходимых истин разума и отклонить утверждение о спасительных сверхъестественных откровениях. Готтхольд Эфраим Лессинг объявил, наконец, историческое обоснование религиозных истин принципиально невозможным: «Для высоких требований разума историческая истина, которая всегда может быть введена только в качестве гипотезы, недостаточна. Истинная, т. е. согласная с разумом религия не может быть обоснована в истории, в области случайного» (Vergauwen, 1995, 123).
Богословская апологетика решительно втянулась в эту библейскую критику – например, бенедиктинец Беда Майр в своем четырехтомнике 1787–1789 гг. «Защита естественной, христианской и католической религии» (Niemann, 1984, 271–297; Heinz, 1984, 208 след.). Но при этом она еще не вышла за рамки аргумента от чуда. Таким образом, и на фундаментальную критику Лессингом исторического обоснования христианства через ссылку на Божественное откровение в истории не могло было быть дано убедительного ответа.
Говоря вообще, апологетика, как она сформировалась, по крайней мере, в католической теологии к концу XVIII века, не представляла собой чарующей картины. Это впечатление тем более подтверждалось по мере того, как данная форма апологетики закреплялась и воспроизводилась в неосхоластике с середины XIX в. Да, она практически без ограничений доминировала в богословском учебном процессе и пособиях к нему на протяжении примерно 150-ти лет; но при этом она носила характер чисто оборонительный, т. е. старалась лишь отразить поставленные извне, от имени разума неудобные вопросы против религии, христианства и Церкви, не затрудняя себя задачей доказательного прояснения веры и придания ей правдоподобности. Основной причиной такой скудости был свершившийся по итогам позднего Средневековья разрыв между разумом и откровением. Теперь считалось невозможным воспринимать саму веру как разумную и обеспечивать ее более глубокое понимание. Вместо этого должно было обосновываться христианское притязание на истину, путем обнаружения Божественного истока христианства и Церкви. Истина веры как таковой совершенно не подлежала обсуждению. Таким образом, это поле было оставлено – без должного осознания того, что произошло – за критически настроенным в отношении религии и христианства рационализмом.
Отсюда вытекали далеко идущие последствия для понимания веры. В контексте такой апологетики вера понималась «в первую очередь как согласие с открытыми Богом и предложенными Церковью истинами» (Schmitz, 1969, 201). Субъективные факторы, сущностно входящие в утверждение веры и в акт веры, оставались полностью затемненными. Правда, «не отрицалось, что вера сама по себе является сложным целым, включающим в себя сознание, волю и благодать. Но для суждения о достоверности веры воля и благодать не рассматривались как конститутивные элементы». Здесь «принимались во внимание почти исключительно объективные и внешние критерии откровения, а доказательство его действительности утверждалось на чудесах и предсказаниях. Все это стали называть “объективной апологетикой”» (Schmitz, 1969, 201). Но то была своего рода половинчатая апологетика, которая полностью оставляла в тени человека как адресата посланничества откровения, человека с его вопросами, опытом, страхами и упованиями. Поэтому неудивительно, что эта апологетика не оставила о себе глубокого впечатления во внетеологических кругах, и даже во внутрицерковном пространстве едва ли могла быть воспринимаема как действенная. Отсюда и «разразившийся в ХХ веке провал апологетики» (Seckler, 1993, 839).
Внутрибогословский контекст апологетики еще раз изменился с конца XVIII века, но без существенного влияния на ее концепцию. После того, как она, начиная с Дюплесси-Морне и Шаррона, эмансипировалась в Новое время, апологетика теперь вновь была включена в систематическое богословие в качестве введения в догматику (Heinz, 1984, 226–268). Произошло это вследствие государственной реорганизации богословского обучения сначала в Австрии (1774), а затем в Баварии (1777). Цель реформы состояла в преодолении схоластически ориентированных методов обучения и замене их богословием, полностью построенном на откровении. Его источником отныне должны были служить не античные философы и главы богословских школ, но Писание и Традиция. Именно в такой связи догматике предпосылались апологетические трактаты; они должны были обосновывать богословскую систему и вводить в нее. При этом внешняя защита веры ни в коем случае не отпадала, и дальше оставаясь важной задачей. Только теперь она была подчинена требованиям систематического строения богословия, становясь, тем самым, фундаментом всей теологии. В пределах догматики она не обслуживала определенные истины веры, но демонстрировала, прежде всего, действительность Божественного откровения, а также то, что Церковь была учреждена как его хранительница и толковательница. В саму стратегию апологетической аргументации не привносилось этим ничего существенно нового.
Однако изменение в постановке задачи постепенно привело к тому, что эта дисциплина стала обозначаться как основное богословие. Наконец, с середины XIX века началось его выделение в качестве самостоятельного предмета. Наряду с апологетикой, в него вошло обоснование теологии как науки, а также ее внутреннего единства и структуры.
Относительно структуры различаются две формы основного богословия (Schmitz, 1969, 199 след.; Wagner H., 1983, 742). Одна из них – «немецкая», распространившаяся преимущественно в университетах Германии. Она охватывает, в основном, религиозно-философское «обоснование религии» (demonstratio religiosa), которое занимается такими вопросами, как познаваемость Бога или подчинение человека Богу; «обоснование христианства» (demonstratio christiana), которым показывается осуществление откровения Божья в Иисусе Христе и его достоверность; и «обоснование католицизма» (demonstratio catholica), в котором идет речь о доказательствах учреждения Церкви Иисусом Христом и ее тождества с Римо-Католической Церковью. Можно сказать, этот тип структуры ориентируется на тот путь, которым должен идти человек, чтобы добраться до Божественного авторитета, содержащегося в Католической Церкви. В отличие от него «романская», т. е. распространенная в римских учреждениях форма основного богословия содержит лишь demonstratio christiana и demonstratio catholica. Demonstratio religiosa отнесена здесь к философии религии. Вместо нее наличествует богословское учение о началах (Prinzipienlehre), т. е. об источниках и принципах богословского познания, которое в Германии обычно понимается как введение в догматику и помещается в соответствующем разделе. Разумеется, различение этих двух структур является идеально-типологическим; в реальном обучении практикуются смешанные формы. Однако, во всяком случае, наличие данных двух форм основного богословия показывает, что уже со времени появления этого предмета его идентичность была и остается спорной. Если за «романской» формой очевидно понимание предмета больше как пролегомен к догматике, то за «немецкой» больше проявляется взгляд на основное богословие как предмет на границе философии с теологией.
Основное богословие и в концептуально расширенной форме изначально было захвачено объективистской конфигурацией апологетики Нового времени. Поэтому в начале ХХ века оно нуждалось в обновлении, которое могло было быть достигнуто лишь при разрыве границ этого объективизма и устранении его недостатков (Geffré, 1969, 420 след.). Субъективные факторы веры и вероубеждения должны были быть теперь приняты во внимание. Главный изъян «объективистской апологетики» и основного богословия состоял в том, что в них суждение о достоверности веры покоилось на одних внешних критериях, тогда как внутренние основания вероубеждения полностью игнорировались; здесь «развивалась рациональная мотивировка веры вне связи с ее живыми мотивами» (Geffré, 1969, 420). Так произошло отслоение веры от полноты человеческой жизни, причем было полностью упущено из виду то обстоятельство, что подлинная вера есть всегда свободный экзистенциальный акт. Как бы ни было важно рационально мотивированное вероубеждение, вера не может быть к нему редуцирована; она включает в себя все измерения человеческой природы. Обновление основного богословия могло произойти лишь при учете этого.
III. Прорывы до Второго Ватикана
Разумеется, столь важные для христианской веры субъективные факторы никогда не были подвергнуты окончательному забвению – без них никакое обретение веры, как и успешная передача ее, невозможны. Поэтому эти субъективные предпосылки в долгой традиции христианского богословия периодически начинали рассматриваться снова и снова. То, что они в апологетике Нового времени были в значительной степени вытеснены из поля зрения и забыты, было, вообще говоря, связано с ее уклонением от нормального пути развития, когда богословие отрешилось от живой веры, что отрицательно сказалось на его жизнеспособности. Однако и в эту эпоху производились весьма примечательные и важные попытки восполнить указанный недостаток. Поначалу, правда, они оставались на периферии, сталкиваясь даже с серьезным сопротивлением, так что их влияние могло проявиться лишь в долгосрочной перспективе.
1. Джон Генри Ньюмен
Одну из таких попыток предпринял ставший впоследствии кардиналом Джон Генри Ньюмен (1801–1890) в своем учении о согласии (Fries, 1983; Petri, 1985, 149–152; Kuld, 1989, 125 и далее; Verweyen, 2000a, 294–298). Эту тему Ньюмен разрабатывал еще до своего обращения в католицизм, а увенчал ее трудом, опубликованным в 1870 г.: Эссе в защиту грамматики согласия (An Essay in Aid of a Grammar of Assent) (Newman, 1961). В нем Ньюмен стремился продемонстрировать, что вера не основывается на строгих доказательствах, но предполагает акт согласия, сущностно зависящий от воли и опирающийся на конвергенцию истинностных суждений. При этом он считал, что односторонне рационалистическое понимание мотивации веры или согласия на ее принятие должно быть отвергнуто.
В обоснование своей точки зрения Ньюмен также ссылается на повседневный опыт. При этом он различает два способа мышления: «изначальный процесс выведения» и «процесс исследования вывода». Свой ход мысли Ньюмен подытоживает следующим образом: «Все люди имеют основания, но не все могут их назвать. Два типа деятельности духа мы можем обозначить или как выведение и аргументацию, или как бессознательную и сознательную мысль, или как имплицитный и эксплицитный разум» (Newman, 1964, 193). Вторая из них, т. е. строго логическое доказательство, не играет существенной роли в повседневных взаимоотношениях. Ибо, «если бы это было не так, то вся наша жизнь проходила бы в поисках доказательств; все наше существование было бы одним продолжающимся диспутом; мы не имели бы времени для действия; мы никогда бы не начинали действовать» (Newman, 1964, 303). Вместо этого, по Ньюмену, наше повседневное сознание строится на вероятностных доводах. Последние должны быть избыточными числом и направляться неким общим чувством. Когда это так, они могут удовлетворять «разумному, рациональному доводу», а равно «достаточно прочному убеждению» (Newman, 1961, 229), даже есть речь не идет при этом о принудительном для разума формально-логическом доказательстве.
Ньюмен приводит в пример косвенное доказательство на судебном процессе: «Достоверность рассматривается судьей как то, что следует за сходящимися истинностными суждениями, из которых складывается реальный довод, пусть это только разумное, а не формально-логическое доказательство» (Newman, 1961, 230). Чтобы прийти к таким истинностным суждениям, требуется столь «деликатный, упругий и гибкий инструмент» (Newman, 1961, 190), как способность к логическому мышлению. По Ньюмену, речь здесь идет о «личностном даре, не простой методе или калькуляции» (Newman, 1961, 222). Кроме того, здесь играют роль и субъективные, не поддающиеся обобщению факторы. Сходящиеся истинностные суждения лишены принудительной силы; они могут сгуститься в уверенность познающего субъекта только тогда, когда созвучны тому, что сам этот субъект воспринимает как истинное. Лишь в этом случае процесс выведения приводит к согласию, так что «выведение и согласие – не одно и то же» (Newman, 1961, 116).
Отсюда понятно, почему Ньюмен считает волю предпосылкой веры. Последняя не может быть человеку продемонстрирована; она покоится на его свободной решимости и предполагает соответствующую субъективную предрасположенность. «Одинаково бессмысленно пытаться привести людей к вере посредством доказывания или истязания» (Newman, 1964, 55). Они должны изнутри себя быть открытыми для религиозной вести, для потребности в спасении, которого сами не могут себе доставить. Таким людям присуща особая способность восприятия истины, которую Ньюмен называет «illative sense»[50]. Он имеет в виду опять процесс выведения, но состоящий не в цепочке формальных умозаключений, а «в имплицитном делании выводов, надежном инстинкте, способности суждения, основанной на лишь возможных данностях, интеллектуальной добросовестности» (Newman, 1961, 412, прим. 243). Эта способность человека позволяет Богу привести его к вероубеждению и даровать ему необходимую для веры удостоверенность. Если же у человека недостает основополагающей открытости для религиозных измерений жизни и, как следствие, также и воли к вере, этот illative sense не может у него развиться.
Зависимость веры от воли, однако, ни в коем случае не означает ее неразумности. Напротив, по Ньюмену, «вера также является процессом разумения», в котором, впрочем, как и в повседневных взаимоотношениях, «основания многих выводов не могут быть продемонстрированы» (Newman, 1964, 165), ибо это – те внутренние основания, что находятся в самом человеке и часто не подлежат адекватной объективации.
Не умаляя всего вышесказанного, Ньюмен мог придавать известное значение и внешним критериям, поддерживавшимся современной ему «объективистской апологетикой».
«При допущении вероятности, что Провидение может открыть себя человечеству, довод от действительности такого происшествия, в противном случае недостаточный, в силу суждения о нем разума способен сделаться удовлетворительным для приобретения уверенности. Но помимо этой действительности он вовсе не нуждается в том, чтобы быть достаточным. Ведь разум, который только взвешивает доводы, так же как и тот, который только исходит из внешнего опыта, противоречит вере» (Newman, 1964, 149).
Здесь, по крайней мере отчасти, проясняется стремление Ньюмена связать друг с другом субъективные и объективные факторы мотивации веры. Позднее это будет названо интегральной апологетикой (Geffré, 1969, 421 след.). И совершенно недвусмысленно Ньюмен придает больший вес субъективным, внутренним основаниям, тогда как «методы понимания посредством религиозного исследования и познания суть лишь нечто внешнее, вспомогательное… они только присовокупляются, но не относятся к сущности… они полезны на своем месте, но не необходимы» (Newman, 1964, 57).
2. Морис Блондель
Иную, нежели Ньюмен, отправную точку избрал другой значимый критик «объективистской апологетики» и основного богословия, французский философ Морис Блондель (1861–1949). Его интерес был направлен не на акт вероубеждения непосредственно, а на вопрос об отношении человека к сверхъестественному откровению. Блондель также размышлял над антропологическими предпосылками акта веры, прежде всего с точки зрения проблемы опосредования богооткровенной вести в контексте модерна. В основе этого лежал опыт глубокого отчуждения современного человека от христианства, приобретенный Блонделем во время учебы в Париже. Здесь ему открылось, что недостаточно указать на возможность откровения Божья, а также на действительность этого события. Ибо тем самым вовсе не обосновывается, что человек вообще должен иметь дело с этим откровением, принимать его как нечто определяющее для своей жизни. Этой проблемой, остававшейся для «объективистской апологетики» белым пятном, и занялся Блондель. К тому времени она уже была различным образом тематизирована во Франции (Schmitz, 1969, 203 след.), поскольку на фоне развития новых наук, таких как психология или социология, уже ощущалась неловкость от того, что теология оставляет без внимания находящиеся внутри самого человека точки соприкосновения с богооткровенной вестью.
Своеобразие Блонделя в том, что он ставит этот вопрос не как теолог или христианский апологет, а как философ – точнее, как философ, имеющий обязательства перед современной философией. Он убежден, что своеобразие этой философии содержит в себе решительное препятствие для того, чтобы сделать послание христианского откровения понятным современным людям и приблизить его к ним. Блондель хочет прочно встать на почву этой философии, чтобы отсюда, без дальнейших опосредований, открыть доступ к христианству.
В качестве ключевой философской идеи, а вместе с тем и основания современной мысли Блондель рассматривает идею имманентности, а именно – для человека только то является истинным и может быть принято им как таковое, что соответствует ему самому и находится в согласии с его собственной автономной действительностью. Но с этой точки зрения идея сверхъестественного должна казаться прямо возмутительной, ибо оно было бы чем-то таким, что не может раскрыться человеку изнутри его самого, т. е. лежит вне имманентности, в то же время претендуя на значимость для человеческой мысли, воли и деятельности.
Интенция Блонделя клонится к тому, чтобы то и другое вошло в свои полные права – идея имманентного и идея сверхъестественного. Он хочет доказать, что они обе могут быть сохранены в своей специфике, не исключая друг друга; иначе говоря, что современная мысль и вера в откровение совместимы друг с другом. Но для этого необходимо привести доказательства априорной внутренней предрасположенности человека к сверхъестественному откровению; должно быть показано, что человек в своей автономной имманентности предрасположен к сверхъестественному и принципиально для него открыт.
К этой задаче Блондель приступает в работе 1893 г. «Действие» («L’Action. Essai d’une critique de la vie et d’une science de la pratique») (Bouillard, 1963; Schmitz, 1969, 204–210; Flury, 1979, 94–102; Verweyen, 1986a)[51]. Он рассматривает всю взаимосвязь человеческой жизни как свершение поступка. Этот action, в котором человек себя обнаруживает, артикулируется в сознательных определениях воли (volonté voulue), преследующих свои особенные, разнообразные цели. В основе – некое изначальное волеизъявление (volonté voulante), которое всему этому action человеческой жизни дало первый импульс и всякий раз снова приводит его в движение. Начиная с элементарных чувственных восприятий, продолжая научными и социальными устремлениями и завершая нравственными, метафизическими и религиозными значениями, это движение направляется ко все более обобщающей тотальности. При этом, однако, проявляется постоянная несоразмерность между первичной динамикой и конкретными определениями воли: изначальное волеизъявление не находит себя полностью ни в одном из конкретных целеполаганий, оно, в конечном счете, не может быть удовлетворено и всеми ими вместе. Правда, снова и снова эту стремящуюся вперед динамику пытаются закрепить в определенных формах и образах жизни, которые человек создает исходя из своих возможностей. Однако все эти попытки подлежат разоблачению как идеологические.
Так анализ, осуществляемый Блонделем, в конце концов приводит к заключению, что потребность, заложенная в изначальном волеизъявлении, не может быть удовлетворена имманентностью «действия». Следует признать, что эта потребность действительно существует, а также то, что ничем внутри природного порядка ее нельзя удовлетворить. «Она насущна, и она неутолима. Это… последний вывод из детерминизма человеческой деятельности» (Blondel, 1965, 319). Но тем самым на чисто философском уровне проявляются контуры сверхъестественного. Философский анализ сам по себе приводит к идее, что динамика человеческого действия могла бы прийти к завершению только в сверхъестественном. Предъявить реальность последнего философия иным образом не могла бы, она выясняется только в этой идее. Ею, во всяком случае, показано, что человеку не хватает себя самого, и в самом человеке обнаруживается след, подразумевающий его отзывчивость к сверхъестественному откровению.
Через несколько лет после публикации «Действия» Блондель подверг в своем «Письме об апологетике» («Lettre sur l’apologétique», 1896) суровой ревизии апологетику того времени. На ее представителей это произвело такое впечатление, будто он хочет полностью отвергнуть традиционную апологетику и заменить своей, построенной на методе имманентности. Поэтому Блондель внутри современной ему теологии был подвергнут массированному отрицанию. Но сам Блондель в полемике вокруг своей позиции всегда подчеркивал, что впечатление, ею вызванное, является неверным. Он ни в коем случае не имел ввиду отбросить «объективистскую апологетику» – он в полной мере признавал ее значимость, но хотел расширить ее посредством имманентистской, показывающей способность человека отзываться на откровение. Блондель не хотел оставлять такие события, как чудо, явление Иисуса или возникновение Церкви просто в их объективно-историческом статусе. По его мнению, их значение сохраняется лишь в том случае, когда воспринимающий их субъект соответственным образом предрасположен. Только тогда эти феномены могут служить знамениями Божественных дел. Если же человек, напротив, не подготовлен внутренне к возможности сверхъестественного откровения, то он остается слеп и к знаковости этих событий.
3. Пьер Руссло
На эти мысли впоследствии смог опереться французский иезуит Пьер Руссло (1878–1915). В своей статье 1910 года «Глаза веры» («Les yeux de la foi») он рассуждал о примирении внешних и внутренних факторов, сущностных для акта веры (Kunz, 1969).
«Руссло понимает веру как изначально возбуждаемое внешней действительностью откровения и воспринимаемое по внутренней благодати личное переживание (Lebensvollzug), в котором нет ни однонаправленной линейной последовательности, ни однонаправленной зависимости, но отдельные элементы находятся в напряженном единстве, взаимно испытывая воздействие друг друга. В основе такого понимания веры, интегрирующего отдельные элементы в единое целое, лежит интегративное понимание отношений между разумом и верой, природой и благодатью» (Kunz, 2000, 313).