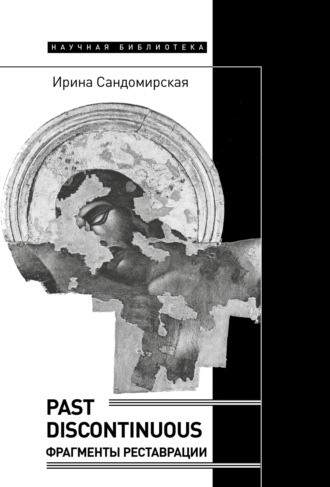
Полная версия
Past discontinuous. Фрагменты реставрации
Молчит, покоясь в своей самодостаточности, не только «просто вещь», но и бесценная ценность коллекционера: спрятанный от злых глаз и рук, доступный лишь воображению и влюбленному взгляду подлинник, объект бескорыстной страсти и самозабвенного служения вещи в ее способности быть только собой и довлеть только себе. Молчит и старая вещь в руках реставратора, терпеливо перенося одну за другой попытки реставрации, дереставрации и новой реставрации в усилиях заставить ее говорить.
О тщете реставрации
Историк искусства Мартин Кемп, ведущий специалист по Леонардо, в автобиографических очерках описывает взгляд историка искусства, рассматривающего произведение в состоянии реставрации – или, вернее, жест его зрения, технику ви́дения. При первом свидании юного Кемпа с «Тайной вечерей» эти два жеста – обобщающий взгляд издалека, с противоположной стены старинной трапезной, и детализирующий взгляд в упор на поверхность живописи, – соединяясь, производят впечатление гнетущее.
Находиться в реальном присутствии изображения, превзошедшем время и пространство, уже само по себе было знаменательно, но сама фреска никак не вызывала трепета. Я знал, что меня ждет нечто особенное, когда я увижу Леонардо в реальном пространстве длинного прямоугольного зала, в котором некогда обедали монахи, часто в обществе герцога Лодовико. Но было трудно избавиться от навязанного образа мегашедевра и еще труднее не замечать, насколько разрушена живопись. Живописная поверхность была шершава, как шкура аллигатора, и вся состояла, как лоскутное одеяло, из темных пятен и фрагментов поблекшего цвета вперемежку с голой штукатуркой. У противоположной стены трапезной стояли скамьи с высокими спинками, чтобы усталому туристу было где присесть, но в этом мрачном месте они не улучшали настроения[131].
Впоследствии выясняется, что «реальное присутствие» Леонардо на этом неудачном первом свидании было на самом деле присутствием результата послевоенной реставрации под руководством известнейшего мастера. Уже десятилетие спустя после завершения она была признана несостоятельной и технически, и эстетически как пример грубого вмешательства, хотя в свое время представлялась вполне научным и эстетически правильным проектом. Второе свидание Кемпа с Леонардо приходится на начальный период новой реставрации в конце 1970-х, возглавляемой ученицей прежнего мастера, значительная часть усилий которой направляется на то, чтобы минимизировать вред, причиненный реставрацией учителя. Это свидание повергает Кемпа в еще более глубокую печаль; поверхность живописи вблизи производит еще более гнетущее впечатление: «Я не мог ни с кем разговаривать. Это было ужасное мгновение»[132].
Что видит специалист-историк, сидя на скамье у противоположной стены и разглядывая живопись? Это целый театр событий, чувств и жестов; сам Леонардо назвал это зрелище il concetto dell’ anima:
Поразившее слушателей ужасом предсказание Христа о скором предательстве кого-то из учеников страшным ударом отзывается в общем чувстве каждого из них ‹…› бурное смятение Петра, изображенного слева с ножом в руке, которым он отрежет ухо у солдата при аресте Христа; чуть сонный вид младшего возлюбленного ученика Иоанна, который пытается побороть дрему. Иуда откинулся назад, в предчувствии напрягшись всем телом. Справа от безмятежного Христа апостол Фома воздел палец, которым он будет пробовать раны Христа после Его Воскресения; апостол Филипп прижимает руки к груди, вопрошая: «Не я ли, Равви?»; апостол Иаков-старший в тревоге широко разводит руками, глядя на пророческие хлеб и вино[133].
Что же видит он на той же поверхности, стоя рядом с реставратором, молодой женщиной, похожей на санитарку в белом халате, с микроскопом и со скальпелем в руке, которым она приподнимает струпья засохшей краски?
Мелкие фрагменты красочного слоя, распадающиеся наподобие рассыпанной мозаики, часто в обрамлении белого грунта. Фрагментов голой штукатурки было больше, чем можно было заключить, глядя на репродукции. ‹…› При ближайшем рассмотрении единственное, что бросалось в глаза, были следы опустошения от распада. Невозможно было представить себе, что все это в целом когда-нибудь обретет хоть какую-то связность. Осмотрев живопись вблизи, я получил какое-то представление об археологии разрушенных слоев краски и грунта. Я ушел, как только понял, что больше уже ничего не узнаю. […Это было] как будто я стал свидетелем публичной казни[134].
А вот как описывает свой опыт сама реставратор – руководитель проекта, который наблюдал Кемп; она упоминает те самые операции, за которые ее потом будут возносить до небес и/или подвергать уничтожающей публичной критике (как это сделала в своем анализе ArtWatch):
Вот перед нами поверхность, полностью разрушенная, распадающаяся на мельчайшие чешуйки краски, которые осыпаются со стены. Каждую из этих чешуек надо шесть-семь раз очистить скальпелем под микроскопом ‹…› Бывает так, что у меня весь день уходит на расчистку небольшого участка, но закончить не могу, потому что растворитель, высыхая, вытягивает из-под поверхности все новую копоть. Иногда приходится расчищать один и тот же участок два раза, а иногда три или четыре. Верхний срез красочного слоя пропитан клеем. Средний заполнен воском. Использовано шесть различных составов штукатурки и несколько сортов политур, лака и смол. Реагенты, которые действуют в верхнем слое, не берут средний слой. То, что действует в середине, не действует на нижнем слое[135].
Результат, подытоживает Мартин Кемп, – это «Тайная вечеря» «совместного авторства Леонардо и Брамбиллы (руководителя реставрации)»: «наименее плохой» из всего возможного. (ArtWatch, наоборот, считает, что хуже быть не может, что есть не только результат агрессивной стратегии реставрации, но и коррупции всей индустрии великих шедевров и памятников культуры, реставрационные кампании которых обычно оплачивают крупные медиакорпорации – в данном случае Sony, – которые используют их для рекламы собственной продукции[136].)
Возвращаясь к трем примерам практической памяти, с которых я начала эти рассуждения, – к чашке/вилке с их «полем», в котором записана память о разводе родителей и о блокаде Ленинграда; к альбому фотографий, оцифрованному и откурированному в качестве культурного наследия и выброшенному после этого на помойку; к многострадальной древней Пальмире, взорванной террористами и ожидающей превращения в новодел силами специалистов государственного Эрмитажа, – вспомним, что речь шла о наличии как бы двух тел у каждого из этих артефактов: одного, позволяющего производить над собой самые разнообразные операции наименования, определения, атрибуции, толкования и – что важно – оценивания, и другого – бессловесного, которое как будто остается в безмолвном остатке после вычитания первого, красноречивого, репрезентативного и ценного; это тело вещи, не имеющей транзитивности, не служащей поэтому объектом и не создающей субъектности, и потому являющей себя как нечто не имеющее ни идентичности, ни функции, ни формы; не несущей в себе ни урока, ни послания, подобно булыжнику на дороге. Это последнее, однако, и есть тело присутствия – в отличие от первого, от тела явления, которое так легко превращается в исторический или художественный памятник, в объект любования и поклонения, в предмет «современного культа памятника» (Алоиз Ригль) и во многое-многое иное.
Считывая прошлое с тела объекта, субъект читает самого себя. «Патримониальным синдромом» называет этот эффект историк архитектуры Франсуаза Шоэ – проявлением нарциссизма, характерного для века электронных коммуникаций и цифровых технологий, «простетической революции»[137]. Последняя освобождает субъекта от опыта органического времени и пространства. Имаго, в котором субъект как бы узнает истину о себе, глядя в «патримониальное зеркало» (например, считывая старую семейную вилку), является иллюзией и в клиническом, и в критическом смысле.
Вещь при этом остается строго сама собой – и молчит.
2. Формы записи и перезаписи прошлого. Памятник, исторический памятник, наследие (достопримечательность)
О записи для памяти
По контрасту с молчанием «просто вещи», аллегории прошлого, воплощенные в вещи исторической – в памятнике в широком смысле слова, – оставляют впечатление оглушительной болтовни. Как социальные конденсаторы, памятники, собственно, и организуют, и направляют эту «болтовню»: научные, популярные, художественные дискурсы со своими аллегориями и институциями, коллективными ритуалами, объектами и практиками, аффектами и фигурами воображения, – преувеличенным коллективным переживанием прошлого, «патримонимальным синдромом». Одновременно, представляя собой ту точку, вокруг которой все это концентрируется и приходит в движение, памятник и сам является всего лишь продуктом этого движения: вне своего диспозитива памятник не имеет собственного значения.
Тогда как «просто вещь» молчит – в своем «втором теле», в качестве памятника, вещь болтает, рассказывая нам, за что ее следует ценить, о чем мы должны в ее лице помнить и как культивировать. Если документ содержит в себе прямые доказательства и свидетельства прошлого, то памятник представляет собой аллегорию исторического воображения современности, воплощенную в той или иной материальной форме: реликвию, редкость, древность и пр. Памятник в этом смысле – не монумент на площади (воздвигнутый в честь кого-то/чего-то), но ценная старая вещь – рукопись, археологическая находка, произведение искусства – которая хранится в академической, художественной, музейной или иной коллекции[138]. Это вещь, которая в самой своей материальности хранит время – и которая одновременно служит аллегорией времени для современности. Памятник – предмет сложной историчности. Как материальный носитель, он принадлежит тому времени, которое оставило на нем отпечаток; как объект интерпретации – тому времени, которое его обнаружило и возвело в разряд памятников. Однако самый спорный и интересный аспект историчности – это ее, этой вещи, durée: время длительности ее существования между истоком и современностью, время бесконечных трансформаций ее, этой вещи, материального и символического бытия, ее функций и ценности, которые, несомненно, менялись бесчисленно много раз, каждый раз оставляя бесчисленные материальные следы, которые отпечатывались на артефакте, возникая и под действием времени, и от рук человека. Этот третий модус времени – время длительности бесконечных изменений – со всей очевидностью предстает в реставрации[139]. В свете генеалогии и в форме документа, как и в свете археологии и в форме памятника, вещь рассматривается в качестве носителя стабильной идентичности; трансформации и мутации идентичности объясняются «шумом» искажений и неквалифицированных вмешательств, и этот «шум» надо удалить, для того чтобы расслышать голос оригинала, сделать подлинное – видимым. Реставрация имеет дело с вещью в ее исторических изменениях как work in progress, в составе которой материальные и символические трансформации отложились едва ли не как геологические пласты в породе, в форме гетерохронии, многоукладной экономики или экологии времени[140]. Хотя на практике реставрация, как мы увидим ниже, идет на поводу у того или иного принятого стиля присвоения прошлого, того или иного модуса патримониального воображения своего времени. Реставрация – дитя своего времени. Но непосредственной реальностью, в которой оперирует реставратор, является именно гетерохроническое напластование слоев прошлого. В силу этого реставрация содержит в себе мощный критический потенциал, на практике отрицая саму идею непрерывного времени и гомогенной идентичности как заведомо мифическую[141]. Реставрация подвергается и справедливой, и несправедливой критике за то, что проявляет политическую и коммерческую сервильность по отношению к режиму историчности и к доминирующему состоянию коллективного исторического воображения. Однако имея в своем распоряжении ключ к реальной гетерохронии в составе времени, именно она обладает и ключом к исторической критике режима историчности, ключом к истории самого процесса историзации объекта, к самой динамике этого гетерохронического, анахронического и полного скачков процесса и к многоукладной темпоральности исторически значимых вещей.
Реликвия в собрании ученого монаха в монастыре шестнадцатого века; древний свиток в коллекции эрудита-академика в семнадцатом столетии; фрагмент греческой колонны или римской гробницы с инскрипцией в собрании антиквара-археолога в восемнадцатом или древняя рукопись в руках филолога в девятнадцатом – все это, как и многое другое, суть артефакты, которые приобретают характер памятников того или иного рода в зависимости от диспозитива, где они становятся объектами: хранения, изучения, любования, охраны, а затем, ближе к нашему времени – и законодательства, государственного регулирования в качестве исторических памятников и национального культурного наследия[142].
Зачем мы охраняем и сохраняем вещи? Зачем нам памятники и что это такое? Памятники, утверждает Фрейд в «Лекциях о психоанализе», – это символы воспоминаний, точно такие же, как истерические симптомы невротика. Больного мучают отношения с символами, а не с самими вещами; идентичность определяется отношениями с ее символами, так же, как и кризис идентичности, который наступает в результате утраты символов. В обществе, фиксированном на коммеморативности, образуется «патримониальный синдром». В отличие от «просто вещи», которая молчит, памятник болтлив: он хранит в себе и транслирует дискурс. Как материальная форма, в которой фиксируется присвоенное нами прошлое, памятник записывает в своей телесности и сам жест этого присвоения. Памятник призван аллегорически выражать линейность исторического времени и непрерывного хода истории: от «них» – до «нас», от «древних» – к «новым». Однако по своей символической конституции памятник скорее ближе к мифограмме – многомерной и мультимедиальной структуре записи, открытой Андре Леруа-Гураном, антропологом и палеонтологом, который теоретизировал доисторические формы материальности и формы письма и их трансформации в мире технической цивилизации. В принципе доисторической мифограммы Леруа-Гуран видел прототип любой технологии записи, в том числе и такую форму письма, как памятники – «символы воспоминаний» по Фрейду, то есть материальные объекты, в которых кодируется и сохраняется память прошлого[143].
За полтысячелетия своего господства линейное письмо приучило нас к мысли о линейности времени. Однако, утверждает Леруа-Гуран, в своем истоке письмо было многомерным, и в передаче работы воображения, например в современном искусстве, в поэзии и литературе, оно остается таким и сейчас. В доисторических пещерах изображения животных сопровождаются отпечатками ладоней со странно укороченными, как будто ампутированными фалангами разных пальцев. Леруа-Гуран высказал предположение, что смысл в том, что изображение животного – предмета охоты – сопровождается изображениями жестов, которыми охотники обмениваются, заманивая зверя в западню. Мифограмма – это такой способ представления объекта, который сочетает в себе его репрезентацию с инструкцией, с изложением способа, которым он получен как объект[144]. В этом смысле объект «памятник» тоже мифограмматичен: он содержит в себе (видимый) образ прошлого и (невидимую) инскрипцию, не просто репрезентируя прошлое в качестве семиофора (по Помяну), но содержа в своей «невидимой» части некое руководство по производству исторического смысла в данной материальной форме; прошлое в mode d’ emploi для удобства сегодняшнего использования. Памятник репрезентирует некоторое событие прошлого, но одновременно репрезентирует и собственную «памятниковость», то есть ценность самого себя в качестве символа прошлого, в качестве именно той инстанции, в отношение с которой входит субъект, подобно тому, как пациент Фрейда выясняет отношения со своим симптомом, который является символом воспоминания.
В гетерохронной истории памятника – изобретения европейской цивилизации и культурной истории европейского нового времени – сломы и разломы носили драматический характер, например когда наметился исторический конфликт интерпретаций между памятником – фрагментом древнего мира в системе ценностей антиквара и памятником – репрезентантом истории цивилизации у систематика-энциклопедиста, который видел себя стоящим «на выходе из варварства» и «детства человечества», где застрял антиквар, погруженный в созерцание руин и фрагментов[145]. Однако еще более драматическими трансформациями отмечен этап, на котором «памятник» академиков, эрудитов, просветителей преобразился в «исторический памятник» – в объект исторического позитивизма XIX века и, тем самым, в мифограмму с еще более сложной семантикой, с еще более широким, размытым аллегоризмом.
Если памятник в смысле интересов антиквара – это «найденный объект», помещенный для любования в кабинет редкостей, то исторический памятник имеет историческое же и политическое происхождение. Во Франции исторические памятники возникли из вещей, обобществленных революцией, в результате массового насилия против монастырей и аристократических домов и реквизиций собственности эмигрантов. Художественными памятниками примерно в то же время стали называть объекты культа, отчужденные от церкви, когда церковь отделилась от государства. Исторический/художественный памятник – показатель динамических социальных и политических процессов модернизации. В результате революционного насилия эти вещи в мгновение ока стали «ничьими» и впоследствии, уже силами Реставрации, были каталогизированы, систематизированы и заключены в музейные коллекции в качестве единиц материальной и исторической ценности в составе «отечественного наследия» (фр. patrimoine).
Памятники – объекты антикварного интереса, такие как рукопись, инскрипция на осколке античного мрамора, руина храма, гробница – были конкретными вещами или конкретными фрагментами конкретных вещей. Но что такое это собирательно-абстрактное patrimoine, из чего оно сделано и из чего состоит? Уже историческая семантика этого существительного, как и его эквивалентов – англ. heritage, нем. Erbe, рус. наследие – озадачивает, поскольку имеет референтом размытое множество не то вещей, не то установок и отношений; множество, которое с каждым днем, с каждым оборотом глобального патримониального дискурса все более размывается, охватывает собой как вещи, так и невещи – квазивещи, или так называемое духовное (intangible) наследие, общими для которых являются крайне туманная генеалогия и произвольность в мотивации ценности[146].
Исторический памятник – объект как раз такого размытого множества, когда вместо того, чтобы служить местом материальных инскрипций, оставленных рукой человека или действием времени, артефакт становится аллегорией для репрезентации духа прошедшего времени, то ли воображаемого, то ли реконструированного на основе систематического принципа. Во Франции периода Реставрации это преображение памятника в исторический памятник имело наиболее выраженные признаки. Там заслуга институционализации исторических памятников принадлежала историку Франсуа Гизо, основателю государственной системы охраны исторических памятников[147]. Пока не возникла бюрократическая и институциональная машина охраны как признака «цивилизации» и «выхода из варварства», не было и «исторического памятника».
По следам революционного насилия и последующего режима реставрации произошла и решающая метаморфоза в семантике patrimoine. Из средневекового юридического понятия и термина, обозначавшего передачу имущественных прав внутри семьи или рода, то есть от отца – сыну, patrimoine стало обозначать символическое право всех граждан отечества на обладание символами патриотической гордости. Корень patri- в традиционном значении патримония означал отца, pater; в революционной этимологии «отец» превратился в «отечество», la Patrie, а patrimoine стало эвфемизмом «имущества Отечества», которое физически состояло из предметов бесхозяйных, из «собственности без собственников», поскольку собственники или были казнены, или бежали. Так в результате революционного насилия и массовой деструкции из объекта традиционного права «собственность без собственников» превратилась в предмет бюрократического госуправления и украсилась фразеологией «национального достояния», «исторической ценности», «коллективной памяти» и пр. Общество нового времени не имеет традиции, нестабильно и неустойчиво в своих основаниях и потому требует подтверждения в собственных глазах и в глазах других, чему служат и социальные конструкты – исторические памятники, национальное наследие. Драматическая история образования наследия и исторического памятника – объекта государственной охраны – из собственности, перераспределенной в результате неограниченного насилия, впоследствии повторилась и в отношении наследия в революционной России, за чем последовала подобная французской Реставрации сталинская эпоха возвращения истории под лозунгами «наследства», а затем и умеренная консумеризация прошлого в форме «духовного наследия» при позднем социализме[148].
Как и русская революция столетие с лишним спустя, Французская революция принесла с собой колоссальные разрушения культурной собственности, после чего ознаменовалась пионерскими экспериментами под лозунгами спасения сокровищ от разрушений, ею же самой и санкционированных. Французские революционеры не руководствовались желанием просто компенсировать ущерб от собственного иконоклазма, как это было после гражданской войны в Англии, где пострадали, а потом долго восстанавливались средневековые церкви. Новым явилось не то, что иконоклазм обратился в свою противоположность, а то, что разрушения и национализация собственности эмигрантов и врагов народа привели к революционному решению – изобретению национального наследия, а в дальнейшем и системы его охраны, и системы воспитания гражданских ценностей, основанных на ответственности граждан в условиях общественной собственности на памятники истории[149]. Тройная перспектива прежних антиквариев по отношению к вещи – исторического знания, эстетического любования и консервации (каталоги, альбомы, реставрация, кабинеты древностей) – спроецировалась на область институтов, идеологий и практик под общими патриотическими знаменами и лозунгами гуманизма, знания и прогресса[150].
Превращение «памятника» в «исторический памятник» обозначило собой даже не просто «выход из варварства», а переход через Рубикон[151]. Поставив традиционное прошлое – укорененное в семейном праве и семейной экономике, стабильное прошлое – в условия полного исчезновения, послереволюционная эпоха индустриализации одновременно строила бюрократическую систему, институции и технологии охраны прошлого от собственных разрушительных сил, учреждала государственные органы и общественные функции и переформулировала классическую древность, а затем и средневековую старину в терминах исторических эпох, стилей и жанров для воспроизведения и подражания. Материализовавшись в форме исторического памятника, это новое прошлое приобрело политическое значение, объединяя в заботе об охране и спасении как государство, так и все общество; институты и практики отечественного наследия, так же как патримониальные эмоции, воображение и ритуалы, сопрягаются в едином диспозитиве культурно-исторического наследия как способа присвоения прошлого в форме аллегорически репрезентирующих генеалогию нашего «сегодня», но в своем материальном составе хранящих потенциально подрывающие генеалогию археологические следы.
Исторический памятник репрезентирует старину таким образом, что разрыв с прошлым и его утрата оказываются очевидными и неизбежными. В этом смысле нет более красноречивого символа модерности, чем исторический памятник, который ставит точку на прошлом, считая прошлое безвозвратно ушедшим, а современность – технически и интеллектуально вооруженной для его, прошлого, совершенствования в форме воспроизведения.
Став предметом государственной и общественной заботы, исторический памятник принял на себя дополнительные функции, выражающие имперскую идеологию. Европейские империи использовали исторические памятники в качестве инструментов внешней и внутренней политики; нарождающееся гражданское общество – в качестве знаков присутствия со своими повестками в публичной сфере; превращению в символ современности способствует и утрата историческим памятником когнитивной функции в эпоху исторического факта и исторического документа. Исторический памятник со своим государственным и общественным культом становится отличительным признаком «долгого» XIX века, символом гуманистических культуроохранительных интенций просвещенных режимов – и предзнаменованием катастрофы Европы в последующих мировых войнах.
Однако и «век памятника» заканчивается, сменяясь «веком наследия», который можно считать наступающим в послевоенные 60-е годы прошлого столетия, одновременно с возникновением общества потребления и спектакля. С развитием туризма, глобального транспорта, электронных коммуникаций и цифровых форматов «культ» уходит в прошлое, уступая место «индустрии», а наследие как таковое покидает область национальных официальных идеологических символов и становится ареной активистских гражданских движений. Если исторический памятник знаменовал собой достоинство нации, то наследие репрезентирует на локальном уровне, представляя коллективную память и идентичность того или иного меньшинства, или, наоборот, в глобальном, над- и транснациональном масштабе, в качестве мирового культурного наследия. При этом по мере дальнейшей демократизации культурного наследия, постепенной отмены евроцентристских принципов ценности и аутентичности (так, как они выразили себя, в частности и в неразрешимых противоречиях парадокса о корабле Тезея); по мере включения в индустрию туризма и в соревнование культур по репрезентации своей исторической памяти в символах наследия возрастает фрагментированность этого поля патримониального культа и коллективного нарциссизма, объединенного общими патримониальными эмоциями. Культы и эмоции сосредоточиваются на отдельных предметах, возводя вокруг них историзирующие и эстетизирующие дискурсы и практики, подобно тому как антикварские желания и эмоции, а также стремление обрести вновь некогда якобы утраченные «корни» как будто возвращают нас обратно в эпоху эрудитов, коллекционеров и дилетантов эпохи Возрождения и барокко. На смену (систематической) истории и после ее, истории, громогласно объявленного конца является культурное наследие с собственными формами времени и пространства, анахроническое, анатопическое, состоящее из взаимных наложений и множественных складок время-пространство эпохи культурного наследия[152].

