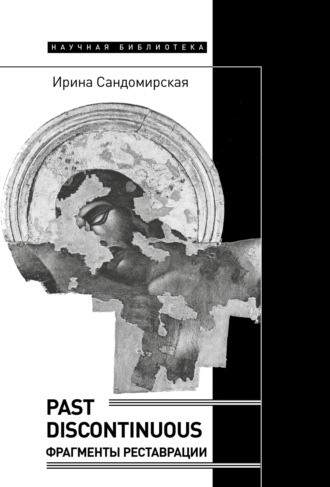
Полная версия
Past discontinuous. Фрагменты реставрации
Одновременно с таким возвращением памятника в популярной культуре наблюдается и смешение прежде четко ограниченных областей «памятника» и «документа». Еще Жак Ле Гофф, основатель исторической «школы наследия», то есть метода использования памятников культуры в качестве источника исторических данных, писал о том, как в современном историческом знании утрачивается различие между памятником с его функцией «напоминания» и документом, задача которого, даже исходя из этимологии, состоит в том, чтобы научать и поучать (лат. docere)[153]. Эти две инстанции, две модальности, в которых нам дается прошлое, начинают контаминировать друг с другом: так, памятник – изначально объект почитания – оказывается источником для исторического суждения, и наоборот: историк начинает обращаться с документом как с памятником. Мишель Фуко связывал этот поворот с решительным эпистемологическим сдвигом, когда с появлением частных исторических дисциплин нарушилось принятое в систематической истории представление о непрерывности времени в развитии и на первый план вышли «пороги, разрывы, мутации, трансформации». Фуко пишет, что история мысли, знания, философии, литературы открывает все больше и больше разрывов во времени, тогда как история в общем смысле, наоборот, все больше описывает стабильные структуры. Параллельно этому документ перестает быть средством для восстановления некоего целого: исторической эпохи, явления или события. Он все больше приобретает свойства хрупкого следа, который надо не просто читать на предмет получения данных, но расшифровывать с учетом его собственной истории, конституции, материальности; это документ, превратившийся в памятник, чтобы сообщить нечто большее, чем то, что в нем написано. Если раньше археология – «наука о немых памятниках, инертных следах, об объектах без контекста и вещах, оставшихся от прошлого» – претендовала на статус истории, то теперь, наоборот, история в ее частных направлениях претендует на статус археологии, изучая документы так, как археология раньше описывала памятники[154].
Здесь мы снова наталкиваемся на двойственность отношений, связанных с неустранимой для нас, субъектов патримониальных чувств и практик, двойной жизнью и двойной телесностью вещей. В структуре капитализма с его «патримониальным синдромом», как выразилась Шоэ, обнаруживаются два комплекса, полярных по содержанию, два фокуса одержимости, две доктрины, из которых первую можно условно назвать «доктриной светильников» (учение Джона Рёскина), а вторую – «доктриной химер» (наиболее полно сформулированной Виолле-ле-Дюком). Ниже я вернусь к этим двум общеизвестным дискурсам, поскольку вижу в них наиболее полное выражение противоречий «патримониального комплекса». Эта антиномия, возникшая в баталиях историзма позапрошлого столетия, приобретает новую релевантность и в наши дни, когда поляризация дискурсов прошлого между элементами «химер» и «светильников» воспроизводится уже в новых технологических и идеологических условиях. Я буду рассматривать первое («светильники») в качестве примера тактильного отношения к прошлому как к наследию, а второе («химеры») – как случай прошлого, присвоенного как наследство, в модусе оптической апроприации.
О патримониальном синдроме и патримониальной инфляции
Если судить по развернувшимся в последнее время баталиям о памяти и истории, ценность прошлого в современном обществе чрезвычайно высока: вера в будущий прогресс умерла; время ускоряется и аннулирует длительность настоящего; смыслообразующий фокус переместился в прошлое[155]. При этом объяснить внятно, в чем она заключается, эта ценность прошлого, и в чем, собственно, заключается само «прошлое», не может никто, но претензии на обладание и распоряжение этой ценностью предъявляются и с низов, и с самых высоких трибун. «Верхи» занимаются установкой памятников, материальных и дискурсивных, стремясь законодательно закрепить собственную версию истории и собственное ничем не ограниченное право ее изменять по произволу. «Низы» организуют протесты, в ходе которых свергают памятники, или, наоборот, пикеты против застройщиков, защищая памятники от посягательств. Оба антагонистических акта – возведение или снос, сверху или снизу – родственны друг другу в смысле произвольности своих оснований, в предписательности аффектов почитания или отвержения, в отчетливом культовом характере обоих. В последнее время, наряду с беспрецедентным ростом индустрии памяти, возникает все больше сомнений в том, что «прошлое может нас исцелить», как в это верилось на переломе века. Или во всяком случае такое прошлое, которое после объявленного в начале 1990-х конца истории приняло форму требования коллективной памяти под знаком прав человека, исторической травмы и дискурсов примирения[156].
«Патримониальный синдром» постсовременного общества производит «патримониальную инфляцию», связанную с лавинообразным ростом медиа и технологий коммуникаций. Уже многократно упомянутый этнолог Даниэль Фабр, специалист по культуре западного общества спектакля, говорил в связи с этим о замещении патримониума как собранием памятников – переживаниями и ритуалами, коллективными «патримониальными эмоциями». Михаил Ямпольский в критике «нового материализма» описывает апроприацию прошлого антропологически, как она происходит в российской коммерциализированной культуре в форме особенно интенсивного потребления аффектов в «парках памяти»[157].
Памятники как таковые не имеют собственного значения – его имеют те ценности и желания, которые они репрезентируют. Ценность – категория, в соответствии с которой старые вещи каталогизируются и расставляются по принципу возрастания и убывания; ценность хранится в музее, собирается в частной коллекции; за ценностью охотятся коллекционер, антиквар и торговец древностями; ценность можно обменять на другую ценность или выразить в иной системе, например в деньгах. Однако многозначительное слово «ценности» – не просто множественное число от «ценность». Когда дискуссии о прошлом к (моральным, нравственным, национальным и пр.) «ценностям» (мн. ч.) апеллируют чаще, чем к «ценности» как таковой, вопрос из области экономики и эстетики переводится в область «скреп», то есть власти. Если ценность ценна сама по себе, то ценности (мн. ч.) определяются тем, чему они служат, во имя чего приобретают значимость – например, нравственные ценности, традиционные ценности или ценности патриотического воспитания. При этом в наше постидеологическое время, когда плюрализм мнений и стилей жизни гарантируется свободой потребления, то, что связывается с «ценностями», оказывается неартикулированным и скорее ощущается, чем осознается как некий «(дис)комфорт» (излюбленное слово текущей эпохи, со значением всего чего угодно – хорошего и желанного или, наоборот, отвратительного). То же, что связано с «ценностью» (ед. ч.), монетизируется, по крайней мере потенциально и за исключением того, что ценно настолько, что оно переходит в разряд «вечных ценностей», поскольку превосходит пределы монетизируемости. Несмотря на утверждение о незыблемости вечных ценностей, в «парке культуры» (Ямпольский) вопрос о ценности или полезности прошлого приобретает упрощенное, деметафоризированное значение. Но подобным образом дело обстояло и полтора века тому назад, когда Ницше не то иронически, не то всерьез – и время показало, что впоследствии все оказалось серьезно – взвешивал, какими выгодами и ущербами (то есть выигрышем и проигрышем в ценности/полезности) «для жизни» чревата история.
История и память, эти обманчиво близкие категории, суть два антагониста, которые конкурируют между собой за то, на каких условиях современность присваивает прошлое. Патримониальный дискурс и наследие в целом – это третья инстанция, третий модус апроприации, связанный непосредственно с материальностью вещей, наделенных смыслом и ценностью. Здесь прошлое предстает прежде всего в своем воплощенном, овеществленном, физически присутствующем состоянии, и именно таким контактом с присутствием определяются особенности практики и науки, экономики и идеологии, эстетики и этики, например в практиках музейного дела или в общественных движениях, краеведении и градозащите, инструкциях органов охраны и в продукции пропаганды, в мифах и в экспертных критериях аутентичности и пр. По мере модернизации с ее все возрастающими утратами культурных слоев, по мере постоянного, вместе с ростом технологий, ускорения времени технического прогресса[158], все более широкий круг артефактов назначается памятниками, все больше внимания и сил уделяется их защите и пропаганде в качестве культурного наследия. Патримониальный дискурс – это еще одна, наряду с памятью и историей, форма рационализации и «эмоционализации» прошлого, третья форма экономии в обращении смыслов и вещей, третий способ увязывания прошлого с настоящим и будущим. Если историю, грубо говоря, можно отнести к области доказательства, а память – к области мифа, то в патримониальном дискурсе связь времен воплощается в конкретности присутствия вещи, в предположении ее, этой вещи, аутентичности. Аутентичность – это и ахиллесова пята патримониального дискурса, поскольку суждение о подлинности зависит от режимов историчности, а таких режимов здесь как минимум три, о чем я уже говорила выше, но о чем уместно напомнить.
Одна доктрина идентичности опирается на самоидентичность вещи в отношении своего «первоначального состояния», своего истока в глубине веков, в том виде, в котором «вещь вышла из рук художника» или – что уже совсем гадательно – как она была художником замыслена. Этот «вид» нам, естественно, не дан и зависит от убедительности реконструкции. Другая, противоположная, доктрина считает «первоначальным» не то состояние, в котором вещь «вышла из рук художника», но то, в каком ее нашел археолог; руина – объективная реальность этой вещи; ее разрушенность и есть свидетельство подлинности; такая вещь аутентична не какому-то мифологическому истоку, но реальной истории во времени своего разрушения.
Еще один режим историчности исходит из длительности времени жизни вещи и утверждает ее тождественность самой себе в ее durée, причем не в археологическом слое, но в опыте и практике поколений, в трансформациях, приспособлениях, перестройках и поновлениях, в состоянии вечно изменяющейся work in progress, постоянно трансформирующихся функций и смыслов. В этом случае не идеальная первоначальность, не романтическая руинированность, но именно обусловленная историческим опытом изменчивость составляет основание для суждения о подлинности, пока еще не законченная история ее, вещи, превращений в опыте поколений. Все эти противоречия между самоидентичностью, аутентичностью и историчностью составляют неразрешимую проблему модерности, поскольку модерность видит свой оригинал – свой исток – в античности, но при этом отрицает свое происхождение из нее в качестве копии, воспроизведения, технической репродукции классической эпохи. Будучи, по существу, веком технического воспроизведения, модерность как будто сомневается в собственной подлинности и формулирует критерий аутентичности в узкотехническом смысле слова, то есть как проблему для лабораторного анализа или доказательства на основе провенанса, тогда как подлинность в собственном смысле слова техническому воспроизведению не поддается[159]. Отсюда противоречия модерности по отношению к своим истокам в прошлом, конфликт копии с оригиналом, желание копии воссоединиться с оригиналом и восстание против него, разрыв современности с прошлым и стремление присвоить прошлое, овладеть прошлым в качестве наследия.
О двойной бухгалтерии прошлого: наследие contra наследство
Помимо исторической семантики, которая позволяет проследить изменения во времени имен в зависимости от их диспозитива – хозяина (например, памятник – антикварная вещь contra исторический памятник – аллегория «духа времени»), интересно также посмотреть, чем различаются такие близкие синонимы в синхронном плане. Существует тонкая разница между почти тождественными значениями существительных: patrimoine и héritage (франц.), heritage и legacy (англ.), Erbe и Erbschaft (нем.). Все они могут употребляться в качестве метафор прошлого, но все имеют в качестве первоначальных значения юридических актов передачи имущества от одного конкретного лица другому конкретному лицу. Некоторые тоже, условно говоря, могут обозначать все те же отношения по законам наследования, но чаще используются в качестве метафор «прошлого в целом», символической собственности и предмета гордости многих неопределенных лиц: группы, территории, нации и проч. Русские близкие по значению наследие и наследство тоже различаются между собой похожим образом: одно есть обозначение юридического состояния, другое – скорее метафора, где ценности и наследование понимаются поэтически, расширительно, и субъектом наследования является не юридическое лицо, а неопределенно-личное множество «народ»[160].
В идеологическом языке большевистской России слово наследие имело отрицательные коннотации и относилось к пережиткам и родимым пятнам прошлого/царизма/капитализма/империализма, к остаткам старого режима, которые надлежало изживать, избавляться от них и освобождаться. Когда молодой журналист, а впоследствии выдающийся советский коллекционер, искусствовед и литературовед, «искатель неведомого» Илья Зильберштейн в 1930 году задумал серию публикаций с элементами литературной истории, он назвал ее «Литературным наследством», а не «наследием» и не «историей (литературы)». Как раз тогда в СССР прогремело так называемое «академическое дело», или «дело историков», «дело Платонова – Тарле», в ходе которого была ликвидирована в лице своих носителей академическая историческая наука и цитадель «наследия» – краеведение. В качестве «истории» историков из Академии и Пушкинского Дома и в качестве «наследия» краеведов прошлое категорически запретили. Однако в качестве «наследства» под издательской маркой РАППа и Комакадемии прошлое пригодилось и обрело очень долгую жизнь. Немногим ранее, в конце 1920-х, на смену авангардным идеям сожжения художественных сокровищ и замены посещения музеев визитами в крематорий (Малевич) пришел дискурс о необходимости для пролетарских писателей «учебы у классиков». «Литнаследство» Зильберштейна оказалось более жизнеспособным, чем уже увядавшая напостовская «литучеба» под эгидой Горького, пережив не только драматические для советского литературного истеблишмента годы при Сталине и потом, но и сам советский режим[161].
Литературная учеба и литературное наследство стали лозунгами дня и институтами присвоения гегемоном революции отринутой было истории. Затем уже Первый съезд советских писателей переопределил программу освоения прошлого таким образом, каким прошлое и вошло в сталинский культурный канон. Здесь право на прошлое было заявлено от лица самого передового общественно-исторического строя, законного наследника всех достижений и сокровищ всей мировой культуры. Именно в сталинском каноне и под маркой соцреализма стало возможным толковать прошлое в терминах (законного) наследования[162]. Тогда же после завершения репрессий против историков и филологов старой школы сталинский дискурс о прошлом расцвел собственными ссылками на историческое, культурное, художественное и пр. наследство пролетариата, который «…не только не отказывается от него (наследства), но именно он, единственный, оказывается законным преемником классической культуры»[163]. В редакционной статье из первого выпуска «Литнаследства» на шести страницах (из которых примерно две трети занимает донос на конкурентов по изучению архивов) слово наследство авторы используют 36 раз, обосновывая право пролетариата брать (культурное, художественное, литературное; классиков марксизма-ленинизма) наследство (у мировой литературы); критически пересматривать и перерабатывать под углом зрения марксизма-ленинизма, одухотворять опытом диктатуры пролетариата и вообще всячески разрабатывать наследство[164].
Слово наследие, которое мы теперь употребляем так, как будто это нейтральный и внеисторичный термин, так и не получило распространения до самого конца советского периода, пока уже в года застоя и в контексте духовного расцвета «русской партии», в канун наступления рынка, под вывеской наследия не появился советский Фонд культуры; пока журнал «Наследие» не начал знакомить с жизнеописаниями дореволюционных собирателей икон, частных антрепренеров и меценатов; тогда же оживились связи с влиятельными симпатизантами из числа богатых западных коллекционеров и в самом СССР в достаточно драматических обстоятельствах из подполья стали выходить художественные собрания советского периода[165]. Все то, что в двадцатые – начале тридцатых подвергалось гонению и разрушению в качестве проклятого наследия прошлого; все то, что критически перерабатывалось в сносах старых кварталов и чистках старых кадров; все то, что было разрушено войной, а потом восстановлено «в первоначальном состоянии» под маркой «памятников искусства»; все это в шестидесятых и семидесятых превратилось в объект экскурсионных паломничеств и краеведческий культ «некрополей» – собраний могильных плит и памятников, поклонение заведомо пустым гробам[166].
Наследство – активный ресурс для овладения, инвестирования и приумножения. Наследство принадлежит мне, с ним возможны различные действия: как наследник я могу его развеять по ветру, промотать или, наоборот, прирастить, могу даже отказаться от него или, как заявляла редакция в первом выпуске «Литнаследства», критически пересматривать, разрабатывать, изучать и усваивать. Наследие же – слово высокого штиля и высокого нравственного звучания: если наследство принадлежит мне, то наследию принадлежу я сам, со всей своей идентичностью и нравственностью. Патримониум – собственность отца – подразумевает обязательства отца по отношению к наследнику; наследник уже при его жизни заведомо имеет право на свою долю; -monium – суффикс терминов права (как testimonium – свидетельствование, vadimonium – явка в суд, matrimonium – замужество)[167]. «Насмешка горькая обманутого сына над промотавшимся отцом» полностью оправдана как раз фактом невыполнения со стороны отца этих обязательств. И наоборот: невыполнение сыном обязательств, связанных с наследием, чревато «хонтологией» – бесконечными возвращениями призрака-«отца» с требованиями отдать сыновний долг. Неотплаченное прошлое смотрит на нас как бы из-под забрала, так что мы не можем ответить взглядом на его взгляд, на его требование. Именно так, как призрак отца Гамлета, смотрит на субъекта наследие: оно обвиняет, требует клятвы и заклинает помнить; призрак прошлого говорит голосом отца и от имени отца, прошлое отмечено наивысшей привилегией, «властью видеть и при этом оставаться невидимым»[168].
Хонтология (фр. hantise, англ. haunting), как поясняет переводчик Деррида на английский, для наследника принимает форму обсессии, постоянного страха, идеи фикс или неотвязного, грызущего воспоминания. Эта психиатрическая составляющая несомненно присутствует и в составе значения культурного наследия. Патримониальный синдром, или патримониальный нарциссизм – так Франсуаза Шоэ характеризует общий стиль отношения к культурному наследию в наше время. Современный человек смотрит в прошлое, как Нарцисс на собственное отражение в зеркале вод. Прежде чем прошлое становится объектом различных рационализирующих дискурсов – истории, памяти, охраны памятников, оно формируется как объект желания; как объект экономии, близкой к эротической, и как ценность, вокруг которой разыгрываются драматический спектакль, действо и зрелище коллективных патримониальных эмоций, «страсти по идентичности». Антрополог наследия Фабр отмечает слияние эмоций с дискурсом наследия примерно в середины 1960-х годов. Формула идентификации с прошлым соответствует «патримониальному нарциссизму» Франсуазы Шоэ: «наследие-для-нас» превращается в «наследие-это-мы». Шоэ относит складывание собственного понятия «патримониальный синдром» к тому же периоду; отметим, что параллельно нечто подобное происходит и в советском дискурсе, отчасти как эффект десталинизации, отчасти в косвенной связи с усиленной урбанизацией населения при Хрущеве и Брежневе, когда в контексте коммунистической утопии стало допустимым выражение ностальгической чувствительности по отношению к малой родине, земле предков, истории родного края и пр.[169]
3. Между «химерами» и «светильниками». Антиномии патримониального воображения
О светильниках: патримониальное воображение, тактильное чувство истории и любовь Свана
Присвоение прошлого – это не только психологический феномен, но и в своей основе экономический процесс, процесс обмена и потребления ценности. Прошлое в форме наследия – это прошлое, объективированное в вещах, в ценных, то есть желанных объектах. В теории денег Георга Зиммеля ценность – это объект стремлений, отделенный от субъекта расстоянием, и это расстояние субъект стремится преодолеть силой желания. Для Зиммеля любой вид ценности, в том числе и стоимость, которая возникает в ходе экономического обмена, прототипом имеет ценность эстетическую, а эта последняя основана на желании недостижимого. В миг осуществления желания, пишет Зиммель, в момент наслаждения, когда исчезает различие между субъектом и объектом, исчезает и ценность: ценность возникает лишь как контраст, когда объект отделен от субъекта расстоянием[170]. Невозможно не заметить эротический подтекст в этом определении ценности: «Мы желаем чего-то, только если эти объекты не даны нам непосредственно ни для пользы, ни для наслаждения, то есть в меру их сопротивления нашему желанию»[171]. Однако еще явственней, чем в любовных делах, мы сталкиваемся с сопротивлением «объекта» в делах памяти: прошлое сопротивляется в силу того, что оно прошлое, то есть прошло, оно утрачено, его больше нет. Отсюда невероятно высокая его, прошлого, ценность: неизмеримо расстояние, отделяющее нас от него. Зиммель продолжает:
Содержание желания объективируется, как только предмет противополагается нам не только в смысле своей непроницаемости, но и в силу расстояния, как некое не испытанное еще наслаждение ‹…› Мы ценим то, чем обладаем, только утратив его ‹…› только по необходимости преодоления расстояния, препятствий и затруднений ‹…› Поскольку желание сталкивается с сопротивлением и разочарованиями, его объект приобретает значимость, которой он никогда не получил бы в акте свободной воли[172].
Вряд ли можно найти лучшее введение в эротическую вселенную памяти у Пруста, чем экономическая теория ценности Георга Зиммеля. Как ни банально начинать рассуждения о значимости прошлого с Пруста, мы не откажемся от этого избитого пути. Для Пруста ценить – значит любить, и в «Поисках…» мы встречаем самые разнообразные формы любви, самые разные отношения, самые разные расстояния, сопротивления и фрустрации, преодоления и поражения, а вместе со всем этим и разные доктрины желания и ценности, противодействующие друг другу и находящиеся в противоречии и конфликте и друг с другом, и со здравым смыслом. «Любовь Свана» в этом смысле представляет собой как бы развернутый эпиграф, как введение к эпопее поисков утраченного времени, и мы можем читать эту печальную и поучительную историю об одной неравной и несчастливой любовной связи как изложенный в драматической романной форме и на материале эротической экономии анализ ценности и обмена ценностей, теорию экономии желания прошлого.
Вот любовь Свана, Одетта – расчетливая демимонденка, воплощение вульгарного вкуса, или «элегантного стиля жизни». Вот эрудит и эстет, затворник и сноб Сван, который любит (ценит) Одетту в ее неповторимости, или, можно сказать, даже в полной неповторимости ее крайней пошлости, со всеми ее недостатками (или достоинствами, в его глазах): «свидетельством беспорядочности мысли, поверхностности образования, недостатка прямоты и слабоволия»[173]. Ослепленный любовью, в этих грубых чертах Сван усматривает сходство с изображением Сепфоры на фреске работы Ботичелли в Сикстинской капелле. Такого рода невозможные сочетания
могли доставлять ему удовольствие, принимая более общее значение с момента, когда лишались в его глазах связи с определенной исторической эпохой, теряли свою материю, и он подмечал в каком-нибудь старинном портрете сходство с современным оригиналом, о существовании которого художник не подозревал[174].
В фантазии Свана Одетта приобретает как бы химерическое существование, превратившись в невозможное соединение двух миров – дешевой содержанки из парижских низов и ветхозаветной девы, изображенной кистью великого мастера Возрождения. Этой невозможностью она и дорога ему: любовь Свана делает Одетту подлинным произведением искусства, в котором любят его, этого произведения, неповторимость. Как учил любить искусство кумир Пруста Джон Рёскин, нужно любить в вещах «то, что нигде не встречается дважды»[175].

