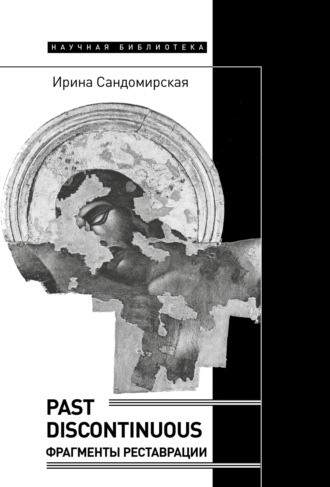
Полная версия
Past discontinuous. Фрагменты реставрации
Именно такого рода ценностью – то есть, по существу, бесценной – предстает в глазах влюбленного Свана проститутка Одетта, олицетворение товарного обмена и сама товар, неустанно заботящийся о поддержании и повышении своей товарной стоимости. Преклонение перед музейным экспонатом – ботичеллиевским шедевром, который отмечен, впрочем, не только возвышенным вкусом эстета, но и несколько пошлым поклонением толпы любителей искусства – как бы увенчивается иным наслаждением, тем, которое связано с обладанием телом Одетты, ее порочной плотью: удвоение идеального образа кисти старинного художника в образе дочери парижского предместья повышает ее ценность в глазах влюбленного, поскольку и сама Одетта становится бесценным шедевром, не уступающим сокровищам работы старинных мастеров.
И когда у него являлись сожаления, что в течение месяцев он только видится с Одеттой, то он убеждал себя, что нет ничего неразумного посвятить столько времени на изучение бесценного шедевра искусства, отлитого на этот раз из вещества нового, необычного и исключительно прямого, в редчайшем экземпляре, который он созерцал то смиренным, проникновенным и бескорыстным взором художника, то гордыми, эгоистическими и сластолюбивыми глазами коллекционера[176].
Искать жизнь в старых вещах, «которые суть уже прах, но все еще суть мысль», Пруст учился у Рёскина. Рёскин формулирует свой принцип в искусстве – ценить то, что нигде не встречается дважды, – описывая никем до него не замеченную небольшую средневековую скульптуру на портале Амьенского собора, Золотую Богоматерь (ныне, благодаря Рёскину и Прусту, она составляет одну из главных туристических достопримечательностей Франции)[177]. Рёскин сравнивает ее улыбку с улыбкой Джоконды и доказывает превосходство безвестной амьенской мадонны над всемирно прославленным шедевром Леонардо: Джоконда – это ценность для всех, и потому она беспочвенна, тогда как Золотая Мадонна высечена из камня местной породы и представляет собой и порождение амьенской почвы, и выражение амьенского духа; не только в ее образе, но главное – в ее материальности заключены та же память и та же энергия, что пронизывают собой всю природу Амьена и его старинный собор; она принадлежит той же истории, той же геологии даже, что и ее среда. В «Семи светильниках архитектуры» Рёскин говорит о памяти, которая сохраняется в старых камнях, о присущей средневековой архитектуре (и не свойственной архитектуре нового времени) voicefulness, то есть воплощенной в камне живой и обращенной к человеку этической и эстетической проповеди. От лица прошедших поколений древние камни взывают и строго взыскивают; это неслышный, но глубоко ощутимый голос таинственного сочувствия, одобрения или осуждения, свидетельство преступлений и страданий человека[178]. Старинный собор бесценен в своей славе, которая исходит от него, подобно золотому сиянию, излучаемая древним материалом, обработанным руками древнего мастера, внушая глубокое чувство одухотворенной проповеди. Он (бес)ценен именно благодаря этим знакам, несомым самой материальностью – в противоположность «пустым» знакам, пустословию заверенных экспертизой суждений знатоков и любителей об историчности, уникальности, аутентичности и пр. Камень подает материальные признаки своего исторического и нравственного присутствия, как необходимое присутствие прошлого в настоящем. Благодаря этому настоящее оживляется и осмысляется, как осмысляется существование старинного собора безмолвным присутствием в его стенах сонмов верующих прихожан, как живых, так и мертвых. Материальные знаки – эманации памяти, излучаемые откуда-то из геологических и археологических глубин, – синтезируются в некоем неизменно-настоящем состоянии времени. Об этом скажет Пруст в одном из ранних эссе (1919) о старинных соборах, написанном под влиянием и по следам Рёскина:
Они входили в собор и занимали там навеки свое место, откуда и после смерти могли слушать мессу: одни – чуть приподнявшись в своей усыпальнице, ‹…› другие – стоя в глубине витража ‹…› и все они хотят, чтобы Дух Святой, когда он спустится в церковь, узнал своих… Великая безмолвная демократия ‹…› верующие, упрямо жаждущие присутствовать при литургии[179].
Историческое чувство выражает себя в почти эротическом влечении к древним камням, в высокой чувствительности к излучаемым ими «материальным знакам», в «упрямой жажде присутствовать» при смысле, который они в своем безмолвии бесконечно транслируют из прошлого в настоящее. В своем опусе магнум «Семь светильников архитектуры»[180] Рёскин формулирует закон о соответствии между практической деятельностью и устоями нравственности: первые всегда являются экспонентами последних; архитектура с собственными законами и правилами являет в своей практике реализацию нравственного закона. Поэтому далее он анализирует – или, вернее сказать, проповедует – семь высоких добродетелей архитектуры, которые составляют ее славу, в числе которых наиважнейшая – Память.
Первая глава книги, посвященная жертвоприносительному характеру архитектуры, представляет собой, если отвлечься от утомительно долгих рассуждений о подробностях евангельского учения о Левитской жертве, исключительного интереса трактат о ценности, своего рода набросок политэкономии искусства, основанной на желании чистого жертвоприношения. Рёскин начинает с того, что отделяет строительство (работу по созданию полезной стоимости) от архитектуры, которая добавляет к работе строителя то, что не является необходимым, то, что выше соображений утилитарности (above and beyond its common use). Создания архитектуры драгоценны именно потому, что не отмечены ни полезностью, ни необходимостью. Подлинная архитектура не экономна, ей чужды расчет и стремление получить побольше, затратив поменьше; она представляет собой род жертвоприношения; это экономия, достоинство которой в затратности, когда ценится не стоимость дара, но сам жест бескорыстного отдавания (вывод из рассуждения о Левитской жертве). Работа, в которую архитектор не вложил все свои силы и помыслы без остатка, не отвечает предназначению архитектуры, это акт лицемерного приношения, пустой и заведомо отвергнутой жертвы. Именно такими пустыми жертвоприношениями занята современная архитектура, которая не отвечает своему «светильнику», как ложная жертва не отвечает Завету (Рёскин отсчитывал современную архитектуру от эпохи Ренессанса, в котором видел начало необратимого упадка, наступившего с распадом средневекового искусства). Современная Рёскину архитектура исходит из стоимости работ и пассивно соглашается на низменные условия труда. Рёскин помещает в основу ценности труд не производительный, но, наоборот, растраченный как будто понапрасну; труд, потраченный безвозмездно даже в тех деталях, которые зритель не увидит и выделку которых не оценит – например, вытесывание сложных каменных орнаментов в местах, скрытых от глаз. Такой труд затрачивается не на то, чтобы получить полезный результат, а на то, чтобы не допустить лицемерия в акте принесения дара. Ибо «не сама церковь нам потребна; не восхищение, не поклонение; не получение дара, но дарение» (Ин. 12: 5).
Доставшиеся нам в наследство чудеса старинной архитектуры остались свидетелями веры и священного трепета ушедших поколений:
Все прочее, ради чего строители приносили жертвы, миновалось – все их злободневные заботы, цели, достижения. Нам неведомо, ради чего они трудились, неочевидна для нас полученная ими награда. Победы, богатство, власть, счастье – все исчезло, хотя и куплено было ценой многих горьких жертв. Но от ушедших поколений, от их жизни, от их земных трудов осталась нам единственная память, единственное их вознаграждение – в виде вот этих серых груд старательно обработанного камня. Наши предки взяли с собой в могилу свои силы, свои почести и свои просчеты, но оставили нам одно – свое приношение (adoration)[181].
Отношение между подлинным и поддельным, будь то в искусстве или в истории, как и в любви, составляет ту же пропорцию, что и отношение между чистосердечным приношением от полноты сердца – и приношением лицемерным, «горькой жертвой». Подлинное – соприсутствует; присутствие ощущается в близости, тактильно, а не дается в репрезентации. Не просто секуляризация религии и трансформация священного ритуала в культурный спектакль ведет к «гибели соборов», но превращение присутствия – в репрезентацию, вытеснение подлинного приношения – приношением лицемерным, невсамделишным, «как если бы».
О химерах: наследство, оптический способ присвоения прошлого и любовь Одетты
Итак, как в архитектуре, так и в любви: предмет не так важен, как важно приношение; важна полнота присутствия приносящего в том, что приносится; важен знак отношения, не замутненного ни расчетами, ни пользой. Полнота присутствия и ощущение бессмертия охватывают Марселя, когда он откусывает кусочек печенья, размоченного в чае. Сван – альтер эго исследователя соборов у раннего Пруста – учится у Рёскина не только подлинности исторического прошлого, но и подлинности любви, ценя в вещах их свободу от мнимой значимости, в отношениях – свободу от пустых знаков, в том числе знаков денежных, которыми полностью определяется смысл существования его возлюбленной. Одетта – энергичная посетительница разнообразных достопримечательностей и модных мест исторического культа, ее чувство истории питается восхищением технологическими новинками в деле архитектурных реставраций, всего того, в чем Сван видит
окаменевшие испражнения Луи-Филиппа и Виолле-ле-Дюка… даже человек, не обладающий особенно тонким обонянием, не избрал бы для загородной поездки отхожие места и не стал бы наслаждаться благоуханием экскрементов[182].
Все это тем более отвратительно ему, поскольку он догадывается, что Одетта использует паломничество по историческим достопримечательностям для встреч с его соперником. Виолле-ле-Дюк – автор знаменитых реставрационных проектов Нотр-Дама, Пьерфонского замка, крепости Каркассон и других сооружений, которые в свое время считались образцом исторической архитектуры, а теперь нашли для себя подражание в формах замка Спящей Красавицы в Диснейленде[183]. Жизнь Одетты вся посвящается поиску исторических аттракционов в духе фальшивого времени. Труды главного архитектора эпохи Виолле в наибольшей степени соответствуют этой голодной на впечатления чувствительности, которая ценит вещи в силу их сенсационности, а не в индивидуальной ощутимости; сенсационность эта способна репродуцироваться, то есть ощущаться многими одинаково сильно как что-то необычное, и может переживаться вновь и вновь уже вторично, в качестве газетной сенсации. Сенсация привлекает возможностью присутствия и участия в такого рода прошлом вместе с теми, кругу которых ты хочешь принадлежать. Прошлое становится приемлемым, если оно образует культ, который разделяется с равными по социальному положению как способ делать светскую карьеру, сочетая ее с чувственным наслаждением и полезным назиданием. Это «патримониальные эмоции», вызванные «страстями идентификации»: простолюдинка Одетта ищет путь наверх и находит его, присоединяясь к высшему обществу в поклонении историческому наследию, наслаждаясь его псевдоисторическими коллажами.
Символом усилий Виолле-ле-Дюка остаются знаменитые химеры собора Парижской Богоматери, мировой известности эмблемы Средневековья, созданные его собственной фантазией. Эти горгоны – современницы османизации Парижа, одного из первых и самых крупных проектов городского переустройства, прототипа всех последовавших кампаний по перепланировке и санации европейских городов, в результате которого Париж утратил свою средневековую историю и превратился в проект современного урбанизма[184]. Химеры собора Парижской Богоматери – это произведения эпохи товарного капитализма, империализма и расцвета спекуляций, как финансовых, так и исторических; периода сопряженных с огромными разрушениями реконструкций, которые официально называли «украшениями» (embellissements) и «регенерациями»; периода, отмеченного «неутолимой жаждой перспектив» (вспомним Ригля с его «дальним зрением»)[185]. Именно в этом контексте модерности, в контексте расцвета строительных технологий и позитивного исторического знания с его культами стиля и эпохи в области коллективного патримониального воображения возникают горгоны Виолле: химерические существа, составленные из не совмещающихся между собой элементов. Повсеместно признанные в качестве символов готического Средневековья, они, по существу, являют собой воплощенный в камне принцип производства значения, всеобщий для эпохи современности, которая воображает себя как воспроизведение старины. Здесь мы находим разные формы воспроизведения: это и реконструкция исторических городских пространств путем их сноса; и реставрация исторических зданий путем их достраивания по собственной фантазии. Это формы вмешательства в материальную среду, соответствующие современным формам и в искусстве (химеры фотографии и киномонтажа), и в антропологии (химеры гендера и расы), и в медиа, включая «глобальные химеры» интернета[186].
Подобно горгонам Нотр-Дама, и сама Одетта являет собой нечто химерическое, как живое олицетворение товарного фетишизма; человек темного происхождения, она меняет габитус многократно и осознанно по мере восхождения по лестнице класса и богатства: не то работница, живущая трудом своих рук, не то предпринимательница, торгующая своим телом, не то потребительница культурных сокровищ из праздного общества. Это своего рода монстр, составленное из разнородного материала существо, точно такое же, как и все ее окружение «пустых знаков», полностью адекватное пустоте этих знаков, – но оно обретает единство в глазах Свана, синтезированное в органический и недостижимый образ силой его любовного желания. Освобожденная любовью Свана от монструозности, Одетта для него – одна-единственная и невоспроизводимая; objet-personne, явление, которое нельзя объяснить, но на которое можно только указать пальцем, назвав по имени. В сердце Свана она обретает для себя имя как такая единственная в своем роде сущность, но это имя состоит из одной-единственной коротенькой музыкальной фразы, и только эта фраза и остается как память о любви, когда Сван перестает любить Одетту и наконец женится на ней, а Одетта, добившись желанного положения и покоя в нем, внутренне тоже приходит в себя и обретает полную адекватность своему химерическому окружению выскочек-нуворишей и обуржуазившихся аристократов.
На периферии этой печальной истории о любви Свана звучит, конечно, и вопрос об утраченном времени, о прошлом, которое обретается вновь соответственно этим двум перспективам, двум типам экономии желания. Время Одетты, каким оно предстает в историческом и технологическом фетишизме в духе Виолле-ле-Дюка, – это химера, в которой искусством инженера и из материала исторических и археологических данных путем спекуляции эпоха воссоздается в некоем воображаемом подобии исторической истины, причем составляется из разнородных, разноприродных и разновременных фрагментов, которым волей реставратора назначается роль исторических документов. Химеры на крыше собора Парижской Богоматери – это воплощенное в камне историческое кредо своего времени и класса. В вводной главе к «Беседам об архитектуре» Виолле сравнивает культурно-исторический памятник – продукт времени и современной архитектурной реставрации – с кентаврами и химерами, как «нечто составное, являющееся как бы явлениями второго порядка». В этой способности придавать вид органических сущностей составным реальностям «второго порядка» Виолле видит предназначение художника, тоже своего рода монстра, соединяющего в себе разнородные по своей природе способности – воображения, подражания и рассудка. При этом
чем больше его (художника) творения удалены от действительности (как, например, собор XIII века от городской публики XIX века. – И. С.), тем больше связности и тем более гармоничную форму он (художник) обязан придать материальному воплощению, которое должно сделать их общепонятными.
Усилием художника образ средневекового собора связывается в «гармоничную форму», чтобы стать памятником, являясь при этом, по существу, химерой. Так, художник, изображая кентавра,
присоединяет позвоночный столб человека к позвоночному столбу коня ‹…› он с изумительным мастерством пригонит живот человека к груди четвероногого, и самый пытливый человек поверит, что перед ним точное и тонкое воспроизведение природы… Какое мне, художнику, дело до того, что ученый докажет мне невозможность существа, если я ощущаю его реальность…[187]
Этот последний аргумент в пользу памятника-химеры звучит в духе Одетты: историческая подлинность не имеет ценности как таковая; ценность определяется историческим правдоподобием в моих глазах, реальностью моих художественных ощущений. Химера истории возникает здесь в ряду других призраков модерности: это и химера доисторического мира в реконструкциях Кювье, и химера индоевропейского праязыка – в реконструкциях моногенетических теорий в филологии и т. д.
Химерический историзм модерности становится руководящим принципом архитектора в восстановлении руин. Реставрация и как термин, и как архитектурная дисциплина – явление современности. Виолле утверждает это в первом же и широко известном предложении статьи из своего «Толкового словаря архитектуры»:
И термин «реставрация», и сама реставрация явления современные. Реставрировать сооружение – это не значит его сохранить, отремонтировать или перестроить; это значит восстановить его в целостном состоянии, в каком оно, возможно, никогда и не существовало ни в какой конкретный момент времени[188].
И в этом тезисе тоже невозможно не узнать признак химерического историзма Свана, который наслаждается сходством между современностью (в лице Одетты) и изображением на старинной фреске. Старинный портрет становится изображением современного оригинала. Старинные произведения принимают «более общее значение»: они «лишались в его глазах связи с определенной исторической эпохой, теряли свою материю»; подмеченное же им сходство было таково, «о существовании которого художник не подозревал»[189].
В исторической реставрации Виолле все начинается с утверждения исторической реальности как реальности неорганической, полной разрывов и швов и населенных существами, смонтированными из разноприродных фрагментов, историческое прошлое является современности, подобно привидению. Дело художника – убедить в существовании и реальности призрака, в исторической возможности существования химеры, которую он склеивает:
Вы придумываете невозможный факт, например случай с привидениями. Вы знаете, что ваши слушатели не верят в привидения. Что же вы предпримете для того, чтобы этот вымысел, проникнув в их сознание, оставил в нем впечатление реального события? Вы постараетесь описать место действия, придать каждому предмету реальный характер, нарисовать картину, где все предметы приобрели бы вещественность, каждое действующее лицо – четкую и законченную внешность и характер. Вы не оставите ничего туманного и неопределенного, и когда ваша сцена будет подготовлена и ваши слушатели станут ее участниками, ее, так сказать, воображаемыми действующими лицами, вы заставите явиться свое привидение… и тогда все, что было невероятного в вашем рассказе, примет видимость реальности, тем более волнующей, чем естественнее были ваши предварительные описания. Вот подлинное искусство[190].
Все вышесказанное в глазах Свана составляет dejecta эпохи выскочек и нуворишей, «экскременты» фальшивого историзма и фальшивого имперского величия. Сван отстаивает достоинство и ценность «подлинной старины», живет в аристократическом районе, обитатели которого отличаются древностью рода, но не элегантностью в понимании Одетты; того же рода вещами он обставляет свой дом – это потертые старинные ковры и книги, свидетельство десятилетий изучения архитектуры и пр. Все это не впечатляет Одетту, которая предпочитает экскурсию для обозрения колоссального новодела в Пьерфоне в компании своих вульгарных знакомых. Сван целиком на стороне органичного и подлинного, тогда как Одетта – олицетворенная фальшь во всяком своем проявлении. Однако ревность Свана вызвана также и завистью к тому, насколько органична химерическая Одетта в своих проявлениях и пристрастиях своему времени и своей среде и насколько живы и непроизвольны ее реакции в ответ на его попытки воспитать в ней вкус к ценности рёскиновской voicefulness. И наоборот, радетель подлинной старины, свободной от историзирующей и коммерциализирующей коррупции, ищущий знаков непроизвольного воспоминания как голоса истины, как voicefulness исходящего из глубины органического бытия, – сам Сван вовсе не органичен всему этому[191]. Сын еврея – биржевого маклера, воспитанный в католической вере, по своим истокам, которые он признает только гораздо позднее, став дрейфусаром, Сван остается чужд той почве, которой он столь самоотверженно служит, и в своем романтическом культе седой старины, абсолютно чуждой ему по происхождению и воспитанию, и потому тем более дорогой аристократической древности, он как раз и представляет собой ту самую химеру, или кентавра – составное существо, склеенное из несоприродных друг другу элементов, – которое Виолле избирает в качестве аллегории искусства вообще, аллегории искусства реставрации и – шире – аллегории модерности XIX века. Виолле прозорливо провел аналогию между современностью и Средневековьем как раз в плоскости этой химеричности, неорганичной многосоставности простых, казалось бы, вещей, в монтажности идентичностей и интенций. Gothic revival – течение в общем климате «страстей идентичности», на противоположном полюсе которого вел свою проповедь непримиримый враг реставрации-деструкции и «реставраторов-революционеров» Рёскин, – у Виолле оказывается попыткой овладеть вечно ускользающим настоящим. И этой же неуловимостью времени движимы и Сван, и Одетта – оба нарциссы, завороженные отражениями в зеркалах прошлого, люди-кентавры, составленные из подражаний; люди – химеры модерности в плену патримониальных желаний.
«Непоправимая беда нашей современности – в том, что мы опоздали», – говорит Виолле; он утверждает, что ясность архитектурной формы, точность программы и естественность стиля утрачены вместе с греческой и римской античностью. Так же и в средневековом искусстве, которое «опоздало» и по отношению к грекам с их искусством, основанным на непревзойденном наблюдении и понимании формы, и по отношению к римлянам, которые умели радикально упростить форму, подчинив ее требованиям управления, духу империи и ее учреждений[192]. Связь между искусством и политическим строем «сейчас» и «тогда» – то есть в Средневековье и в Новое время – выражает себя в том, что и там и там искусство
непрерывно борется с учреждениями этих народов ‹…› именно вследствие этого его (искусства) методы, вместо того чтобы быть простыми, как у древних, сложны, требуют тщательного исследования, проверки, освещения путем критики и анализа.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
URL: https://ostersjostiftelsen.se/project/transnational-art-and-heritage-transfer-and-the-formation-of-value-objects-agents-and-institutions/.
2
Об «обогащении» не в метафорическом, но в конкретном смысле новой капиталистической экономики – «экономики конвенций» в условиях накопления нематериальных ценностей и «когнитивного капитализма» см.: Boltanski L., Chiapello E. The New Spirit of Capitalism // International Journal of Politics, Culture, and Society. 2005. Vol. 18. № 3/4. Р. 161–188. (К этой работе я буду обращаться и далее.)
3
Haskel J., Westlake S. Capitalism Without Capital: the Rise of the Intangible Economy. Princeton: Princeton UP, 2017. Р. 1–14.
4
Ямпольский М. Без будущего: Культура и время. СПб.: Порядок слов, 2018.
5
Bloch E. The Heritage of Our Time. Polity Press, 1991, электронное издание; особенно ч. 4: Non-Contemporaneity and Obligation to Its Dialectic (May 1932).
6
Знаменитые работы Александра Анисимова «История Владимирской иконы в свете реставрации» и «Владимирская икона Божией Матери», откомментированные Г. И. Вздорновым, см.: Анисимов А. И. О древнерусском искусстве: Сб. статей. М.: Сов. художник, 1983. С. 165–274. Более подробно об Анисимове и его методе расчистки см. ниже, в главе 7.

