 полная версия
полная версияАктуальные проблемы государственной политики
Разница между ТВ, газетой и радио гораздо больше, чем кажется из цифр. Испытуемые опирались на свой разум – они не получали никакой «подсказки» от ведущего телепрограммы ни мимикой, ни интонацией. Большинство зрителей оценивают правдоподобность сообщения сходу – они «угадывают» правду и ложь, не рассуждая. В предельном случае, если бы правда и ложь были бы абсолютно неразличимы, то число телезрителей, принявших сообщение за правду, было бы равно числу телезрителей, принявших его за ложь, – 50 и 50%. В эксперименте 48,2% (т.е. 100 – 51,8%) телезрителей приняли ложь за правду. То есть правду сознательно различили только 3,6%. Среди радиослушателей «угадали – не угадали» 53,4%, а сознательно различили правду 46,6%, т.е. практически половина.
Вывод: по самой своей природе ТВ таково, что правда и ложь в его сообщениях практически неразличимы. Как сказал руководитель проекта, «умелый лжец знает, что надо глядеть в глаза собеседника».
§ 5. Сложные манипулятивные построения и их «раскодирование»
Наконец, важной темой является анализ сложных манипулятивных построений. К ним можно отнести большие политические мифы, создание и распространение слухов (например, о грядущем голоде или денежной реформе), ложных понятий и категорий (свобода, рыночная экономика) и стереотипов (например, антигосударственности), провокации («путч 1991 г. в Москве»), а также программы «разрушения символов»).
Современный французский философ С. Московичи видит главное отличие власти западного типа в том, что она опирается на контроль не над средствами производства, а над средствами информации и использует их как нервную систему.
Цитата
Они простирают свои ответвления повсюду, где люди собираются, встречаются и работают. Они проникают в закоулки каждого квартала, каждого дома, чтобы запереть людей в клетку заданных сверху образов и внушить им общую для всех картину действительности. Восточный деспотизм отвечает экономической необходимости, ирригации и освоению трудовых мощностей. Западный же деспотизм отвечает прежде всего политической необходимости. Он предполагает захват орудий влияния или внушения, каковыми являются школа, пресса, радио и т.п… Все происходит так, как если бы шло развитие от одного к другому: внешнее подчинение уступает место внутреннему подчинению масс, видимое господство подменяется духовным, незримым господством, от которого невозможно защититься.
С. Московичи. Наука о массах
Важно!
Условие успеха манипуляции в том, что подавляющее большинство граждан не желают тратить ни сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях. Пассивно окунуться в поток информации гораздо легче, чем критически перерабатывать каждый сигнал. Наука создала инструменты, полезные для защиты против манипуляции, даже целый методологический подход – герменевтику. Вначале это была наука о толковании текстов, теперь она приложима к разным системам знаков – как «выявление скрытого смысла в смысле очевидном». Она занята и критикой идеологии как средства господства в современном мире.
Задача человека, не желающего быть пассивной жертвой манипуляции, – воссоздать в уме реальный контекст сообщения и разными способами встроить в него услышанное или увиденное. Ему противодействует манипулятор – как говорят, операция манипуляции требует «подстройки» к аудитории. Для этого нужно определить ее культурный профиль, язык, тип мышления, характер восприятия сообщений. Более совершенные программы предполагают не просто «подстройку», но и специальные усилия по формированию временной культурной среды, подготовку адресата к восприятию сообщений, «изготовление» мнений и желаний, на которых можно играть.
Умение интерпретации определяется способностью переходить от одного контекста к другому, соединяя разные «срезы» действительности в единые картины. Психологи нашли, что около 30% испытуемых испытывают в этом сильные затруднения. Тренироваться надо. Другие принимают сообщение как допустимую версию, но лишь одну из нескольких возможных и приступают к выработке набора своих версий. Они «конструируют контексты», примеряя к ним версию «подозреваемого» – автора сообщения. Только анализируя разные версии, можно приблизиться в истине, особенно когда действующие лица заинтересованы в ее сокрытии.
К несчастью, очень часто мы испытываем сужение сознания: получив сообщение, мы сразу же с абсолютной уверенностью принимаем для себя одно-единственное его толкование. Обычно это происходит потому, что мы из «экономии мышления» следуем стереотипам – привычным штампам, понятиям, укоренившимся предрассудкам.
Овладеть действительностью можно, только изучив доктрину, тактику и оружие манипуляторов.
Основные выводы
Методы манипуляции вырабатывались много веков и обрели своего теоретика в лице Макиавелли. А вторая половина ХХ в. соединила их с достижениями науки и техники и придала новое качество. Так же как книгопечатание породило не просто иной носитель информации и способ чтения, но и новую рациональность, новое мышление, так радио и телевидение дали новое средство убеждения и внушения. А значит, изменили и тип мышления, рациональность человека-телезрителя.
Западные противники манипуляции считают, что она лишает индивида свободы в большей степени, нежели прямое принуждение. Например, Кант говорил: «Повинуйтесь, и вы сможете рассуждать сколько угодно». Напротив, жертва манипуляции утрачивает возможность рационального выбора, ибо ее желания программируются извне. Это ликвидация главных гражданских прав, а значит, и самой основы западной цивилизации. Тенденция неблагоприятна: тиран шаг за шагом ограничивается правом и этикой, а манипулятор нет – прозревающий человек приходит в ярость и отказывается подчиняться. Это рациональное неприятие манипуляции.
Манипуляция сознанием как средство власти возникает только в гражданском обществе. Здесь обладателем полноты власти объявляется совокупность индивидов, теоретически наделенных равными частицами власти в виде «голоса». Никто, кроме индивидов, не обладает голосом, никто не «отнимает» их частицы власти – ни коллектив, ни царь, ни мудрец. При «старом режиме» власть не распределялась частицами между гражданами, а концентрировалась у монарха, обладавшего не подвергаемым сомнению правом на господство. И в любом традиционном государстве власть нуждалась в легитимации – приобретении авторитета в массовом сознании. Но она не нуждалась в манипуляции сознанием. Отношения господства при такой власти были основаны на «открытом, без маскировки, императивном воздействии – от насилия, подавления, приказа – с использованием грубого простого принуждения». Иными словами, «тиран повелевает, а не манипулирует».
Родовой признак манипуляции – скрытность воздействия и внушение человеку желаний, заведомо противоречащих его главным ценностям и интересам. Религия и идеология идеократического общества действуют принципиально вопреки этому признаку. Их обращение к людям не просто не скрывается, оно громогласно. Ориентиры и нормы поведения, к которым побуждали эти воздействия, излагались открыто и были явно связаны с декларированными ценностями общества.
Манипуляция – способ господства через программирование поведения людей путем духовного воздействия на них. Это воздействие направлено на психические структуры человека, осуществляется скрытно и ставит своей задачей изменение мнений, побуждений и целей людей в нужном власти направлении. Само слово «манипуляция» имеет отрицательную окраску. Им мы обозначаем воздействие, которое побудило нас сделать такие поступки, что мы, согласно последующей оценке, оказались в проигрыше.
Манипуляция требует значительного мастерства и знаний. Если речь идет о политике, то, как правило, к разработке акции привлекаются специалисты или хотя бы специальные знания, почерпнутые из литературы или инструкций. Поскольку манипуляция стала технологией, появились профессиональные работники, владеющие этой технологией (или ее частями). Возникла система подготовки кадров, научные учреждения, научная и научно-популярная литература.
Главные мишени манипуляторов разделим на две группы: инструменты сознания и духовные процессы.
Важная мишень – логическое мышление. Оно оказалось очень уязвимо, в его программу легко внедряются идеи-вирусы. Особенно беззащитно предельно рациональное мышление интеллигенции, не укрепленное «догмами» религии и традиций. Образованные люди легко впадают в гипостазирование и сдвигаются к аутистическому сознанию. Важнейший признак манипуляции – нарушение связности, некогерентность умозаключений. Подрывая логику, манипуляторы стремятся усилить ассоциативное мышление, подменяя однозначные понятия метафорами и стереотипами.
Особая тема – общественные институты и их роль в манипуляции сознанием. Здесь изучается техника превращения коллективов, обладающих общей памятью и нормами (общество), в толпу. Главные институты, с этой точки зрения формирующие человека в современном обществе, – школа и СМИ. Эти институты в разных обществах формируются на разной философской основе и направлены на создание или личности, или человека массы. Большую роль как инструмент манипуляции сознанием играет наука – мать идеологии. Сегодня «ученый эксперт» стал одной из главных фигур в манипуляции. Особое место занимает телевидение как синергическая система, воздействующая на сознание через множество каналов.
Условие успеха манипуляции в том, что подавляющее большинство граждан не желают тратить ни сил, ни времени на то, чтобы просто усомниться в сообщениях. Пассивно окунуться в поток информации гораздо легче, чем критически перерабатывать каждый сигнал. Наука создала инструменты, полезные для защиты против манипуляции, даже целый методологический подход – герменевтику. Вначале это была наука о толковании текстов, теперь она приложима к разным системам знаков – как «выявление скрытого смысла в смысле очевидном». Она занята и критикой идеологии как средства господства в современном мире.
Контрольные вопросы
Каковы родовые признаки манипуляций сознанием? Чем манипуляция сознанием отличается от «классических» способов властвования?
Каковы основные мишени для манипуляции сознанием? Какие главные институты и каналы, используемые для манипуляции сознанием, вы знаете?
Какие опасности заключает в себе манипуляция сознанием для идеократических обществ?
Какую роль играет наука в создании технологий манипуляции сознанием?
Дополнительная литература
Кара-Мурза С.Г. Манипуляции сознанием. М., 2000.
Кассирер Э. Политические мифы // Реклама: внушение и манипуляция. М., 2001.
Московичи С. Век толп. М., 1996.
Почепцов Г. Психологические войны. М., 2000.
Шиллер Г. Манипуляторы сознанием. М., 1980.
Глава 14. Легитимность государственной власти
§ 1. Легитимность как вера в законность власти
Стабильность власти не может быть обеспечена только средствами принуждения (в том числе с помощью насилия), для нее необходима вера в законность власти. Никколо Макиавелли – политик и мыслитель Возрождения (ХV—
ХVI вв.) – первым из теоретиков государства заявил, что власть держится на силе и согласии (эта концепция получила название «макиавеллиевский кентавр»). Отсюда вытекает, что «Государь» должен непрерывно вести особую работу по завоеванию и удержанию активного благожелательного согласия подданных.
Важно!
Легитимность – это и есть то согласие подданных или граждан, о котором говорил Макиавелли. Это состояние есть представление людей о власти, оно, как говорят, «присутствует в сознании граждан». Власть может его только заслужить или на краткое время внушить обманом, принудить к нему невозможно. Легитимность – это признание населением права власти принимать решения, которые граждане должны выполнять. Иными словами, именно граждане наделяют государственную власть легитимностью или «забирают» ее обратно.
Приведем несколько определений термина «легитимность», встречающихся в политической науке. Легитимность – это «способность системы создать и поддержать у людей убеждение в том, что, существующие политические институты являются наилучшими из возможных для общества», это «убеждение в том, что, несмотря на все их промахи и недостатки, существующие политические институты являются наилучшими, нежели какие-либо другие, которые могли бы быть установлены и которым следовало бы в результате подчиняться».
Очень часто термином «легитимность» подменяют связанное с ней, но принципиально иное понятие «легальность».
Важно!
Законность (легальность) власти есть ее формальное соответствие законам страны, прежде всего конституции. Легитимность не отражается в законе. Легальность устанавливают сами институты власти (парламент, центральная избирательная комиссия или конституционный суд). Но формально законная власть еще должна приобрести легитимность, обеспечить свою легитимизацию, т.е. «превращение власти в авторитет». И этот приговор выносят не институты власти, а совокупность населяющих страну людей, в их «молекулярном» низовом плебисците, как «мнение народное». Правда, обвинительный приговор редко удается привести в исполнение быстро.
Эта проблема легитимизации власти как ее задачи и функции возникла в Новое время (модерн), в процессе становления гражданского общества и национального государства. В традиционном обществе власть монарха формально легитимировала церковь, уполномоченная толковать Божественное Откровение. Она удостоверяла статус короля как «помазанника Божия», и большую роль в признании его власти играла вера, а аргументы, идущие от разума, даже признавались неуместными. Впрочем, и рациональный расчет подсказывал, что стабильность порядка в традиционном обществе была большой ценностью – периодические смуты это наглядно подтверждали. После них население начинало даже любить ту силу, которая была способна восстановить государственную власть и порядок.
Таким образом, будем считать, что легитимность – это убежденность большинства общества в том, что данная власть действует во благо народу и обеспечивает спасение страны, что эта власть сохраняет главные ее ценности. Такую власть уважают (разумом), а многие и любят (сердцем), хотя при всякой власти у каждого отдельного человека есть основания для недовольства и обид.
§ 2. Модели легитимности
Макс Вебер различал три чистые модели легитимности:
традиционная, обоснованная Откровением высших сил или традицией;
харизматическая, основанная на культе лидера;
рационально-легальная (бюрократическая), обоснованная эффективностью государственных институтов.
Современные политологи часто определяют политические системы стран третьего мира как «авторитарно-бюрократические». Однако проблема легитимизации власти здесь обычно еще не стала злободневной – политический режим воспринимается большинством населения как нечто естественное.
В крайне бедных странах понятие легитимности режима «лишено смысла».
Важно!
Считается, что традиционная и харизматическая легитимность присущи авторитарным режимам, а в демократических современных государствах власть обеспечивает себе легитимность рационально-правового и бюрократического типа. Но в реальности чистые модели не встречаются. Политика авторитарных режимов бывает в высшей степени рациональной и эффективной, а в общепризнанных демократиях огромную роль играет харизматический лидер. Даже в традиционных монархических режимах есть компонента рационально-легальной легитимности.
Французский социолог М. Доган в своем обзоре типов легитимности разных режимов даже предупреждает: «Применение понятия "харизма" к такому тирану, как Сталин, боготворимому партией-государством, является для большинства людей ошибкой социологической интерпретации». Действительно, культ Сталина возник в тот недолгий период, когда политика и эффективность власти отвечали идеалам и жизненным интересам подавляющего большинства населения, которому угрожали мощные силы.
Из истории политической науки
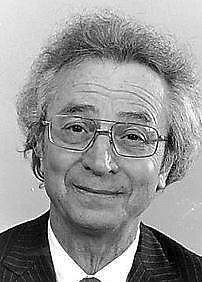
Маттей Доган (1920—2010)
Французский политолог, известен своими исследованиями в методологии социальных наук и сравнительной политической социологии.
Основные сочинения: «Сравнительная политическая социология» (в соавт. с Д. Пеласси, 1982), «Легитимность и нелегитимность среди наций: зачем, как и что сравнивать» (2009)
Строго говоря, в классификации Вебера одним термином обозначается результат разных процессов, а в приложении к разным обществам – и разные состояния общества и власти. Приведенная выше пара современных определений легитимности описывают исключительно третью модель Вебера – рационально-легальную легитимность.
В современных работах, посвященных легитимности, нередки предупреждения такого типа: «Такие понятия, как власть, легитимность, доверие, эффективность, не наполнены одинаковым смыслом в Лондоне и Джакарте, в Вашингтоне и Каире. Стремление заключить эти понятия в формулу, обладающую всеобщей значимостью, несомненно, изобличает грехи западного этноцентризма».
В каждом отдельном конкретном случае легитимность формируется с опорой на все наличные ресурсы. Сравнительно недавно, на рубеже ХХ в., папа Лев XIII в своей энциклике напомнил католикам всего мира, что «власть тех, кто правит, будучи выражением власти Бога на земле, приобретает особое достоинство, стоящее выше человеческого». Это была существенная поддержка традиционной легитимности власти во многих странах, включая современные государства Западной Европы.
Вполне законная власть, утратив авторитет, теряет свою легитимность и становится бессильной. Если на политической арене есть конкурент, он эту законную, но бессильную власть устраняет без труда. Так произошло в феврале 1917 г. с российской монархией, так же произошло в октябре 1917 г. с Временным правительством. Никого тогда не волновал вопрос законности его формирования – оно не завоевало авторитета и не приобрело легитимности. Аналогичным образом за три года утратил легитимность режим Горбачева.
Наоборот, власть, завоевавшая авторитет и ставшая легитимной, тем самым приобретает и законность – она уже не нуждается в формальном обосновании. О «незаконности» власти (например, советской) начинают говорить именно тогда, когда она утрачивает авторитет, а до этого такие разговоры показались бы просто странными.
§ 3. Доверие, популярность и другие существующие вместе с легитимностью понятия
Осваивая смысл понятия легитимности, необходимо принимать во внимание и близкие понятия доверия, популярности и эффективности власти. Все они частично перекрываются с легитимностью, но не сливаются с нею. Например, непопулярность правительства не означает его нелегитимности. Политологи предупреждают: «Опросы общественного мнения с большей легкостью оценивают явления, схожие с легитимностью, нежели саму легитимность». Чаще всего опросы фиксируют степень доверия и популярности власти, но СМИ пытаются представить их как показатели легитимности.
Полезным индикатором уровня легитимности является эмпатия – состояние, при котором социальные акторы идентифицируют себя с политическими лидерами и программами, социальными и политическими институтами. Это социальное самочувствие, которое носит позитивный и конструктивный характер. Степень эмпатии оценивается при социологических опросах.
Очевидно, что в гетерогенном обществе невозможно достичь состояния, чтобы все население считало существующий режим полностью легитимным. Вот вывод сравнительного исследования степени легитимности современных государств: «Легитимность простирается от всеобщего одобрения до полного отрицания. От согласия с нею и ее одобрения до ее упадка, разрушения и полного краха… Ни один из политических режимов не является легитимным для всех 100% населения, во всех областях его действия, или навечно, но, по-видимому, очень немногие их них являются полностью нелегитимными, построенными исключительно на насилии».
В современных государствах абсолютное большинство населения видят многочисленные изъяны в политической системе, при этом режим обладает надежной легитимностью.
Гораздо большее значение для легитимности режима во многом имеет его эффективность. Социолог Р. Дарендорф писал, что понятие «эффективность» предполагает, что правительство должно быть в состоянии выполнить как то, что оно обязалось сделать, так и то, что от него ожидает общество. Легитимность же предполагает общественную поддержку действий властей как правильных, обоснованных, нравственно оправданных. Это значит, что политическая власть должна знать, каковы невысказанные и формально не зафиксированные ожидания, которые бытуют в массовом сознании населения.
Из истории политической науки

Ральф Дарендорф (1929—2009)
Англо-германский политолог, социолог и политический деятель. Известен своей теорией социального конфликта.
Основные сочинения: «Класс и классовый конфликт в индустриальном обществе» (1959), «Общество и демократия в Германии» (1967) «Тропы из утопии» (1974), «Современный социальный конфликт. Очерк политики свободы» (1992)
Важно!
Эффективность и легитимность взаимосвязаны, хотя правительства могут быть эффективными, не будучи легитимными (как это бывает в тоталитарных режимах). Однако и первоначально легитимное, но не эффективное руководство быстро утрачивает легитимность (пример – Временное правительства в России в 1917 г.).
Кризис эффективности обычно выражается в неспособности правительства справиться с инфляцией, безработицей, спадом производства и т.д. Поэтому в мирное время на первый план выходит экономическая эффективность – качество выполнения государством своей функции как организатора народного хозяйства. В момент военной угрозы и войны приоритетной становится эффективность государственной власти как организатора обороны и военных действий.
§ 4. Эмпирическое измерение уровня легитимности
Кратко коснемся проблемы эмпирического измерения уровня легитимности. В нее полезно вникнуть и нашим политикам, и особенно молодежи, которая легко принимает желаемое за действительное. В своем обзоре М. Доган приводит методику, по которой в разных странах регулярно делают оценку степени легитимности. Гражданам задают вопрос, предлагающий выбрать один из трех ответов, отражающих мнение о легитимности:
1) «Я признаю существующие законы и современную систему правления»;
2) «Я вижу много недостатков в нашей системе правления, но я верю в возможность постепенного совершенствования существующего режима»;
3) «Я полностью отвергаю законы, нашу систему правления и наше общество и вижу единственное решение в полном социальном изменении».
Как пишет М. Доган, первый ответ предполагает существование веры в легитимность режима. Второй свидетельствует о наличии убеждения в том, что, несмотря на все его недостатки, существующий режим является лучшим из возможных и, кроме того, поддается совершенствованию. Третий ответ указывает, что существующий режим воспринимается как нелегитимный.
В большинстве стран пропорция граждан, выбравших в 1981 г. третий ответ, была невелика: 9% в США; 3 – в Германии;
7 – в Канаде; 10% – в Австралии. В отдельных странах пропорция таких граждан была относительно велика: во Франции она составила 26%; 24% – в Великобритании, а в Индии достигла такого уровня (41%), который ставит легитимность под сомнение.
Мы видим, что, даже когда почти половина населения на словах категорически отвергает политический режим и социальную систему, кризис легитимности еще не вызывает краха политического режима.
М. Доган поясняет: «Враждебность, испытываемая к партии, находящейся у власти, вполне совместима с верой в мудрость режима. Даже случайное нарушение какой-либо конституционной нормы не подрывает легитимности политической системы. Что утрачивается в данной ситуации, так это доверие к конкретному институту или же к тем, кто его представляет».
Важно!
«Уровень доверия к институтам не следует смешивать с тем количеством людей, которые одобряют или не одобряют то, каким способом правительство решает различные возникающие проблемы: жилья, безработицы, школьного обучения, налогов, социального обеспечения, пенсий и т.д. Большинство граждан может быть неудовлетворено тем, как правительство руководит страной, и считать, что его политика не является справедливой. Но подобные мнения вовсе не предполагают делегитимации существующих институтов власти. Они лишь указывают на отсутствие доверия к людям, которые находятся у руля. Недоверие по отношению к руководителям какого-либо политического института не означает, что сам институт достоин осуждения».

