 полная версия
полная версияАктуальные проблемы государственной политики
В «приличном обществе» человек обязан их использовать. Заполнение языка словами-«амебами» называли формой колонизации собственных народов буржуазным обществом. Замещение смысла слов было в идеологии тайной. Как пишет Иллич, на демистификацию языка наложен «внутренний запрет, страшный, как священное табу».
В России в 1990-е годы заполнение русского языка словами-«амебами» и уголовным жаргоном приобрело характер политической диверсии.
Политический язык – искусственный. Он содержит много слов-символов, позволяющих отличить «своих» от «чужих».
В этих сигналах закодирован смысл, доступный только «своей» политической субкультуре. Принять «чужой» язык, не понимая смысла слов-символов, в политике – значит заведомо обречь себя на поражение.
Кеннет Берк, автор книги «Язык и символическое действие», пишет: «Большая часть нашей реальности формируется вербально. И лишь очень незначительную часть реальности мы познаем путем непосредственного опыта, полная же картина складывается благодаря системе символов. Что касается таких абстрактных понятий, как “демократия” или “справедливость” и еще ряда политических феноменов, то здесь не существует эмпирической основы. Их толкование полностью зависит от вербальных символов. То же самое можно сказать о большинстве политических явлений».
Важно!
Язык слов – не единственная знаковая система в политике.
В американском «Словаре политического анализа» сказано: «В политической коммуникации обыкновенно имеют дело с написанным или произносимым словом, но она может происходить и при помощи всякого знака, символа и сигнала, посредством которого передается смысл. Следовательно, к коммуникации надо отнести и символические акты – самые разнообразные, такие как сожжение повестки о призыве в армию, участие в выборах, политическое убийство или отправление каравана судов в плавание по всему свету. В значительной своей части политическая коммуникация составляет сферу компетенции специализированных учреждений и институтов, таких как средства массовой коммуникации, правительственные информационные агентства или политические партии. Тем не менее она обнаруживается во всякой обстановке социального общения, от бесед с глазу на глаз до обсуждения в палатах национального законодательного органа».
По оценкам американских психологов (Дж. Руш), язык жестов насчитывает 700 тыс. четко различимых сигналов, в то время как самые полные словари английского языка содержат не более 600 тыс. слов. А ведь помимо жестов есть множество других знаковых систем.
Поэтому политологам приходится интерпретировать любое сообщение, в какой бы знаковой системе оно ни было послано. Это непростая задача – «выявление скрытого смысла в смысле очевидном». Эффективнее всего действуют комбинации знаковых систем, и при наличии знания и искусства можно достичь огромного синергического (кооперативного) эффекта просто за счет соединения «языков». Любой жест, любой поступок имеет кроме видимого смысла множество подтекстов, в которых выражают себя разные ипостаси, разные «маски» политика.
Действия, тем более необычные и сложные, можно уподобить текстам, написанным с недомолвками и иносказаниями, на малопонятном языке. Если политик с огромным опытом на важной зарубежной встрече ущипнул секретаршу «принимающей стороны» – как это надо понимать? Здесь видимый смысл «смысла не имеет». Это ритуал, который нес в себе скрытые смыслы, и масса людей подпала под обаяние этого ритуала, как бы им ни возмущались.
Трудно правильно понять смысл сообщений, облеченных в слова и жесты людей иной культуры. Апостол Павел писал: «Говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолкования». Часто люди, получив сообщение, сразу же принимают для себя одно-единственное его толкование. И оно служит для них руководством к действию. Это потому, что из «экономии мышления» люди следуют стереотипам – привычным штампам. Совокупный язык политического сообщества, составленный из всех доступных знаковых систем, называют дискурсом. Это сложная система, и очень часто даже государственная власть не прилагает достаточно усилий, чтобы выработать эффективный дискурс. Особенно страдает от этого коммуникация с молодежью – с каждым новым поколением надо говорить на новом языке.
С явными ошибками был разработан дискурс Н.С. Хрущева и его команды, неадекватным стал дискурс команды Л.И. Брежнева в сложный момент мировоззренческого кризиса советского общества (1970—1980-е годы). Тогда же и дискурс европейской социал-демократии (вообще, левых) был заглушен жестким дискурсом неолибералов. Дискурс М.С. Горбачева и его команды был сконструировал так, чтобы не дать обществу опомниться и задуматься – чтобы представить дело так, будто никакого выбора не существует, и люди не поняли, что их ожидает в ближайшем будущем. Этот манипулятивный дискурс был исключительно эффективен, но очень дорого стоил стране.
Дискурс Б.Н. Ельцина и его «партии» был шокирующим и эффективным. Его кульминация – расстрел Верховного Совета РСФСР в октябре 1993 г. А.С. Панарин, перечисляя главные изменения в жизнеустройстве России тех лет, добавляет: «Но сказанного все же слишком мало для того, чтобы передать реальную атмосферу нашей общественной жизни. Она характеризуется чудовищной инверсией: все то, что должно было бы существовать нелегально, скрывать свои постыдные и преступные практики, все чаще демонстративно занимает сцену, обретает форму “господствующего дискурса” и господствующей моды».
§ 3. Культурное и социальное измерение информационной политики
Создание и распространение информации – часть культуры (материальная часть относится к техносфере, мы о ней не говорим). ГИП – особый срез культурной политики. Государство в большой мере ответственно за то, чтобы граждане адекватно и рационально осмысливали информацию, а не впадали в мракобесие, чтобы их система ценностей не сдвигалась к цинизму и нигилизму, а тем более к изуверству. Государство стремится завоевать господствующие высоты в интерпретации событий в быстро меняющихся обществе и мире. Оно не имеет права уступить эту функцию СМИ, позволив им действительно стать «четвертой властью», особенно если за ними стоят маргинальные группы типа «денежных мешков» или «воров в законе».
Важно!
Государство должно иметь достоверное знание о структуре общества как системе социокультурных общностей, видеть ее динамику и вызревание противоречий, особенно в сфере ценностей (идеалов, чаяний и гнева). На этой основе формируются и правовые рамки информационной сферы. Пространство разрешенного и запретного в высказываниях, доступ к прессе и микрофону, тип и последствия гласности – все это определяется культурой данного общества, а не «общечеловеческими» ценностями, диктуемыми из «метрополии». Россия, Китай, США или Сирия – разные общества и системы культуры. Функции политики похожи, а их наполнение и структуры разные.
В этом источник неопределенности, которая резко усложняет ГИП. Векторы культуры социальных групп подвижны (более в интенсивности, чем в направлении), в кризисном состоянии они расщепляются. Если государство не успевает за этими изменениями, его ждет провал, «замораживанием» процесса можно лишь немного отодвинуть срыв. Такого рода провалы потерпела государственность Российской империи и Временного правительства, а через 70 лет и СССР. «Карта культуры» в динамике – необходимый инструмент ГИП.
В культуре различают фонд и поток. Фонд – освоенная, отобранная и сохраняемая часть, поток – живое движение актуальных продуктов культуры. Обе части необходимы, и ГИП должна быть адаптивна – сохранять и пополнять информационные фонды, быстро улавливать появление ручейков и потоков новых типов и форм информации, строить для них каналы или плотины. Так, Россия сейчас переживает сдвиги в культуре, решения ГИП очень ответственны. За 1990-е годы фондам был нанесен большой ущерб, деградация их еще не остановлена.
Важно!
Помимо культурологии и социологии, фундаментальной областью знания для ГИП является социодинамика культуры. Это знания о том, как вырабатываются, хранятся, передаются и воспринимаются продукты культуры – идеи, вербальная информация, художественные образы, музыкальные произведения и пр. Это теории образования и исследования в области языка, информационные науки и психология восприятия. Бурное развитие социодинамики культуры резко увеличило эффективность воздействия СМИ. С какой целью и кому во благо – другой вопрос. «Совершенные средства при неясных целях – характерный признак нашего времени», – заметил А. Эйнштейн.
Главный для нашей темы вывод социодинамики культуры в том, что общество модерна породило новый тип культуры – мозаичный. Раньше, в эпоху гуманитарной культуры, свод знаний представлял иерархически построенное целое, обладающее «скелетом» основных предметов (дисциплин), главных тем и «вечных вопросов», а в современном обществе культура рассыпалась на мозаику плохо связанных понятий.
Матрицей гуманитарной культуры был университет. Он давал целостное представление об универсуме – Вселенной, независимо от объема и уровня. В мозаичной культуре «знания формируются в основном не системой образования, а средствами массовой коммуникации». СМИ лишают человека способности составить целостную картину мира, подменяют ее мозаикой из массы фактов.
Известный специалист по СМИ А. Моль (Франция) в книге «Социодинамика культуры» (1967) объясняет, что в мозаичной культуре «знания складываются из разрозненных обрывков, связанных простыми, чисто случайными отношениями близости по времени усвоения, по созвучию или ассоциации идей. Эти обрывки не образуют структуры, но они обладают силой сцепления, которая не хуже старых логических связей придает “экрану знаний” определенную плотность, компактность, не меньшую, чем у “тканеобразного” экрана гуманитарного образования».
Важно!
Новая («массовая») школа произвела «человека массы». Он составляет единство с породившей его культурой и ее институтами. Сейчас вся государственная политика России, включая и ГИП, стоит перед историческим выбором – смены университетской культуры, которую выбрали в дебатах начала ХХ в. и строили в СССР, на мозаичную, западного типа. Этот выбор очень болезненный, что хорошо видно по ходу школьной программы. Возникло упорное противостояние, и его исход пока неясен.
В зависимости от того, как разрешится это противоречие, будет выбрана модель информационного пространства (далее – ИП) постсоветской России, которое предстоит построить. Пока что мы существуем на руинах той структуры, которая в основном была создана за советский период.
Это пространство движения информации в человеческих общностях – этносов, народов, наций, стран. Оно имеет входы и выходы для общения с внешним миром. Пространство небольших сообществ внутри страны (например, жителей деревни или предместья и пр. с преобладанием внутренних связей) можно назвать «информационной скорлупой». Структура связей и элементов ИП стран изменялась с развитием общества и появлением новых технологий хранения и передачи информации. История культуры знает ряд революционных сдвигов – возникновение письменности, ямской почты, создание печатного станка и прессы, телеграфа, телефона и радио, телевидения, мобильной связи и Интернета. С каждой революцией увеличивалось разнообразие технологий, но не исчезали прежние методы. Не ушли в прошлое ни личный разговор, ни книга с газетой, ни радио, хотя в политике есть утопические мотивы относительно «информационного общества».
Структура ИП представляет собой сеть центров («сгустков») информационной активности и больших каналов передачи сообщений, а также капиллярную сеть «молекулярного» общения как внутри населения, так и между гражданами и центрами (органами государства, экономики, культуры и т.д.).
Важно!
Образ ИП определяется, прежде всего, состоянием общества. Так, хотя книгопечатание было важной вехой в культуре, но его воздействие на ИП даже в Европе вызревало в течение длительного «инкубационного» периода из-за почти полной неграмотности населения. Лишь промышленная революция и массовая школа позволили преодолеть порог потребности в книге и газете и в их доступности. В России этот переход произошел буквально за два десятилетия – деревня стала читать газеты, что стало важным фактором в сдвиге к революции. Государство не успело адаптироваться. В СССР в конце 1950-х годов ИП было резко изменено радио и телевидением, а дискурс власти не изменился, ГИП стала неадекватной, и с молодежью послевоенного поколения возникла некоммуникабельность.
Кратко осветим состояние ИП постсоветской России. Сразу после Гражданской войны было начато создание общесоюзной информационной связи. Проводная связь для трансляции передач центрального радио появилась в самых отдаленных местах раньше, чем электричество. К 1980-м годам в СССР было выстроено современное ИП, прежде всего, общество с высоким уровнем образования, прошедшее единую школу, построенную на университетской культуре (подобно школе для элиты на Западе). Треть трудоспособного населения имела высшее образование. Массовым было обладание личными библиотеками. Важной институциональной матрицей советского общества была наука – научно-популярная литература имела массового и постоянного читателя (в 1981 г. ее выпуск общим тиражом составил 83,2 млн экземпляров).
В СССР сложились мощные государственные информационные системы, каких не было на Западе, например Госплан и Госснаб. Госстандарт был всеобъемлющей службой стандартизации и метрологии, которая обеспечила очень высокую степень единообразия и точности производства изделий на всех предприятиях страны. Только до 1945 г. было разработано и утверждено более 6 тыс. стандартов (ГОСТ), имевших силу государственного закона. Непрерывно изучая множество параметров практически всей производимой в стране продукции, Госстандарт обеспечивал государственную власть ценной информацией. Это лишь примеры.
Перестройка предполагала в какой-то мере парализовать и демонтировать ИП СССР, а также перепрограммировать идеологическую машину КПСС на ведение антисоветской пропаганды. Конец 1980-х годов – период жесткой информационно-психологической войны против СССР, которая и завершила последний этап холодной войны. Но по ИП был нанесен удар, по мощности непропорциональный политической задаче – разрушение было тотальным, Россия утратила национальное информационное пространство.
Прежде всего, был ликвидирован «скелет» национальной информационной системы – центральные газеты (газеты «ядерной зоны»), позволявшие одновременно на всей территории страны давать людям пакет важной для всех информации. Это «ядро» СМИ создает условия для «каждодневного плебисцита» населения, что и скрепляет людей в нацию.
Был сразу резко сокращен доступ основной массы населения к газете – разовый тираж газет на душу населения сократился в России в семь раз. Если учесть резкое расширение «желтой» прессы, то можно считать, что в России общность тех, кто имеет доступ к «серьезным» газетам, сократилась примерно в 20 раз. А журнал «Наука и жизнь», тираж которого в 1980-е годы был 3,4 млн экземпляров, в 2000 г. имел тираж почти в 90 раз меньше – 40 тыс.
Цитата
В середине 1990-х годов абсолютное большинство публики, включая ее образованные фракции, перешло с печатных средств межгрупповой коммуникации (новых перестроечных газет, тонких журналов) на массовые аудиовизуальные медиа, прежде всего телевизионные. Советская, государственная модель печатных коммуникаций к 1995 году фактически развалилась, но вместе с ней прекратила существовать – в том числе по социально-экономическим причинам – массовая журнально-газетная периодика как таковая (одной или нескольких национальных газет, как в большинстве современных развитых стран, в России тогда не образовалось и нет по сей день)…
Аудитория реально читавшейся прессы – тиражи изданий, наиболее популярных в конце 1980-х – начале 1990-х годов –
в среднем сократилась ко второй половине 90-х примерно в 20 раз. Для понимания масштабов произошедшего я не раз использовал такую метафору: представьте, что в миллионном городе всего через несколько лет осталось 50 тыс. населения. С точки зрения современной социологии (после работ Георга Зиммеля о социальном значении числа) количество взаимодействующих единиц задает тип отношений между ними, а значит, тип коллективности. Социальные связи между «оставшимися» 50 тыс. из моего примера, как ни парадоксально, оказались не теснее, а слабее: социум – причем именно в более образованной и урбанизированной его части – стал более простым и однородным, уплощенным и раздробленным. Но тем самым и более податливым для внешних воздействий на всех и каждого из его атомизированных членов.
Б.В. Дубин. Посторонние: власть, масса и массмедиа
в сегодняшней России
Из истории политической науки
Б.В. Дубин (1946—2014)
Российский социолог, переводчик, культуролог.

Основные сочинения: «Слово – письмо – литература. Очерки по социологии современной культуры» (2001), «Интеллектуальные группы и символический факторы» (2004), «Россия нулевых. Политическая культура. Историческая память. Повседневная жизнь» (2011)
По ряду причин телевидение в принципе не может заменить целый ряд функций, которые выполняет печатный текст национальной газеты, тем более что и телевидение было перепрограммировано на разрушение практически всех советских институтов.
С началом реформы была ликвидирована вся информационная инфраструктура экономики – Госплан, Госснаб, Госстандарт, а также отраслевые министерства с их службами. Перестала выполнять информационные функции финансовая система с контуром безналичных денег. Наконец, были резко сокращены возможности двух важнейших информационных систем – науки и КГБ. Большой ущерб понесли информационные службы правоохранительных органов и система государственных архивов.
Была резко ослаблена и защита национального ИП от внешних вторжений – система информационной безопасности. Исследователь СМИ Г. Шиллер (США) утверждает как постулат: «Для успешного проникновения держава, стремящаяся к господству, должна захватить средства массовой информации». Премьер-министр Гайаны также заявил: «Нация, чьи средства массовой информации управляются из-за границы, не является нацией».
Из истории политической науки
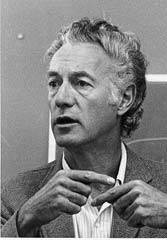
Герберт Шиллер (1919—2000)
Американский социолог, известен своими работами в области средств массовой информации.
Основные сочинения: «Массовая коммуникация и американская империя» (1971), «Манипуляторы сознанием» (1973), «Коммуникация и культурное доминирование» (1976)
Один из отцов холодной войны – Джон Фостер Даллес сказал: «Если бы я должен был избрать только один принцип внешней политики и никакой другой, я провозгласил бы таким принципом свободный поток информации». Эта доктрина впервые была выдвинута на международном уровне в феврале 1945 г., потом «продавлена» через ЮНЕСКО и ООН.
Она была отвергнута странами социалистического лагеря, а потом и большим числом стран третьего мира и неприсоединившихся стран (так, в 1973 г. резкую оценку этой доктрине дал президент Финляндии Урхо Кекконен). Однако на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1975 г. Западу удалось сломить руководство СССР.
Эта доктрина стала важным оружием США в холодной войне. Параллельно расширялся вне соглашений поток информации, ориентированный на интеллигенцию стран «советского блока». Перестройка устранила все препоны, она органично включила поток информации из США в свою программу.
Основные выводы
Анализ информационной политики придется вести в «трудной» среде. В политике до сих пор бытует постулат исторического материализма: «Бытие определяет сознание», – а постулат «В начале было Слово» отвергается. Поэтому «Концепция государственной информационной политики (ГИП)» (1998) сужает эту сферу, считая ее политикой информатизации, которая сводится «к обеспечению научно-технических, производственно-технологических и организационно-экономических условий создания и применения информационных ресурсов».
Главный инструмент выработки и передачи смыслов – язык (устный, письменный и печатный). Язык есть самое главное сpедство господства. Писатель Оpуэлл в романе-антиутопии «1984» дал фантастическое описание тоталитарного режима, главным средством подавления в котором был новояз – специально изобретенный язык, изменяющий смысл знакомых слов.
Свобода слова – утопическая идеологема, практический смысл она имеет только в конкретном контексте. Слово – огромная сила («Словом останавливали солнце, словом разрушали города»). Оно во всех обществах и культурах и при всех политических режимах подвержено ограничениям и разным видам цензуры. Общество распалось бы, если бы не было запретов на нецензурные выражения.
Язык – важнейший инструмент для выполнения ключевых функций государства – строительства общества и нации. Антрополог К. Клакхон пишет: «Каждый язык есть также особый способ мировоззрения и интерпретации опыта. В структуре любого языка кроется целый набор неосознаваемых представлений о мире и жизни в нем». Антропологи-лингвисты обнаружили, что общие представления человека о реальности не вполне «заданы» объективной действительностью. Человек видит и слышит лишь то, к чему его делает чувствительным грамматическая система его языка. Иными словами, сигналы от органов чувств перерабатываются в смыслы языком.
Язык слов – не единственная знаковая система в политике. В американском «Словаре политического анализа» сказано: «В политической коммуникации обыкновенно имеют дело с написанным или произносимым словом, но она может происходить и при помощи всякого знака, символа и сигнала, посредством которого передается смысл. Следовательно, к коммуникации надо отнести и символические акты – самые разнообразные, такие как сожжение повестки о призыве в армию, участие в выборах, политическое убийство или отправление каравана судов в плавание по всему свету. В значительной своей части политическая коммуникация составляет сферу компетенции специализированных учреждений и институтов, таких как средства массовой коммуникации, правительственные информационные агентства или политические партии. Тем не менее она обнаруживается во всякой обстановке социального общения, от бесед с глазу на глаз до обсуждения в палатах национального законодательного органа».
Помимо культурологии и социологии, фундаментальной областью знания для ГИП является социодинамика культуры. Это знания о том, как вырабатываются, хранятся, передаются и воспринимаются продукты культуры – идеи, вербальная информация, художественные образы, музыкальные произведения и пр. Это теории образования и исследования в области языка, информационные науки и психология восприятия. Бурное развитие социодинамики культуры резко увеличило эффективность воздействия СМИ. С какой целью и кому во благо – другой вопрос. «Совершенные средства при неясных целях – характерный признак нашего времени», – заметил А. Эйнштейн.
Новая («массовая») школа произвела «человека массы». Он составляет единство с породившей его культурой и ее институтами. Сейчас вся государственная политика России, включая и ГИП, стоит перед историческим выбором – смены университетской культуры, которую выбрали в дебатах начала ХХ в. и строили в СССР, на мозаичную, западного типа. Этот выбор очень болезненный, что хорошо видно по ходу школьной программы. Возникло упорное противостояние, и его исход пока неясен.
Образ информационного поля определяется, прежде всего, состоянием общества. Так, хотя книгопечатание было важной вехой в культуре, но его воздействие на ИП даже в Европе вызревало в течение длительного «инкубационного» периода из-за почти полной неграмотности населения. Лишь промышленная революция и массовая школа позволили преодолеть порог потребности в книге и газете и в их доступности. В России этот переход произошел буквально за два десятилетия – деревня стала читать газеты, что стало важным фактором в сдвиге к революции. Государство не успело адаптироваться. В СССР в конце 1950-х годов ИП было резко изменено радио и телевидением, а дискурс власти не изменился, ГИП стала неадекватной, и с молодежью послевоенного поколения возникла некоммуникабельность.
Контрольные вопросы
Какой инструмент является ключевым в выработке и передаче смыслов?
Какова роль государства в информационном пространстве? Как соотносятся государственная культурная и информационная политика?
Что такое социодинамика культуры? Каковы главные формальные и неформальные каналы движения информации?
Каковы основные отличительные черты информационного пространства постсоветской России?

