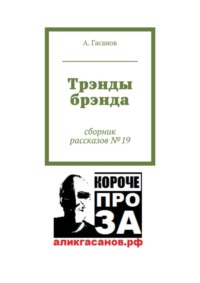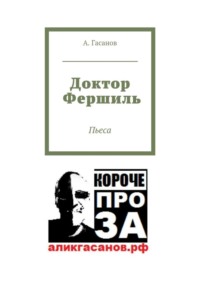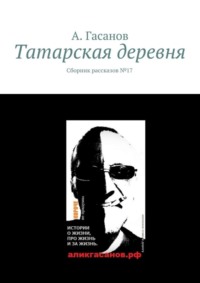Полная версия
240. Примерно двести сорок с чем-то рассказов. Часть 1
– Болгарку неси, – орёт капитан, – Режь его, собаку, быстро!..
Я кликнул по коридору своего верного помощника Андрюху и, слушая приближающиеся Андрюхины шаги, присел перед сейфом на корточки, заглядывая в замочную скважину:
– Да-не… Жалко, Андрей Василич… Новенький совсем…
– Режь, говорю. Времени нет!.. Через десять минут надо в штабе быть!..
Пришедший Андрюха был опять послан за инструментом, а я аккуратно ковырял замок распрямлёнными булавкой и скрепкой, на ощупь соображая, чего я там в нём делаю, успокаивая разбушевавшегося капитана:
– Ща-а… Откроем…
Щёлкнуло раз, щёлкнуло два… И замок к моему великому изумлению – открылся!..
Небесный пулей кинулся к сейфу, облегчённо и весело там порылся, достал какие-то документы, и только потом удивился, и замер, глядя на меня строго:
– Подожди. А ты как открыл его?..
Я был не менее потрясён, но по привычке «держал фасон», фальшиво зевая:
– Сказал-же – «открою щас!».. Раз плюнуть…
Небесный смотрел на меня с уважением, но мизерная искорка тревоги всё-же блеснула во взгляде:
– Ну ты даёшь, Гасанов… Медвежатник хренов!.. А ну, пойдём-ка…
И он привёл меня в соседний цех, где уже второй день не могут закрыть дверь в курилке, потому что ключ застрял в замке. И я через пару минут, совершенно не понимая, чего я опять сделал – вытащил проклятый ключ, нервно расшатав его вверх-вниз!..
…Уже через пару дней я стал замечать, что за спиной меня называют уже не просто «дядя Алик», а иногда уточняют – «Ну, этот – как его? Медвежатник! Из РПБ!..«*. И очень скоро это мне стало даже мешать. Благодаря небылицам обо мне сложилось ложное мнение, что я запросто открою любой замок чуть ли не взглядом, и каждый дурак из начсостава пытался мне всучить самую не разрешаемую работу, что умник-Небесный сразу же и смекнул, и в обиду меня не давал, поручая только действительно что-нибудь серьёзное. Это мне льстило, не скрою, и ребята смотрели на меня с уважением, и каждый стремился работать рядом со мною. Такую касту солдат называли у нас «спецы», и это была армейская элита. В неё входили как мастера-гитаристы, так и сварщики 6 разряда. Все знают, что такой «спец» обычно пользуется покровительством кого-нибудь из начальства, и поэтому нас побаивались трогать без особой надобности сами офицеры, закрывая глаза на наши поблажки в форме одежды, презрение к зарядке, и вообще в вольном распорядке дня.
Мы-спецы часто шастали по городку, кто-то «помогал» ремонт делать, кто-то ещё зачем. И вот однажды, почти сразу же после отбоя, меня вызывает к телефону дежурный по роте, и капитан Небесный орёт мне в трубку:
– Алик, запиши адрес: 17—34. Записал? Сейчас возьми инструмент, и рви туда. Помочь надо. Я на КПП предупредил. Тебя пропустят.
Я поинтересовался, шо стряслось.
– Ключи потеряла женщина. Соседка. «Оля» зовут. Помоги, пожалуйста. Хорошая баба. Завтра до обеда поспишь. Дверь железная.
…Через полчаса я был возле Олиной квартиры.
Поковыряв пять минут замочную скважину, я открыл дверь, и Оля посмотрела на меня, как на бога. Замёрзшая, голодная и уставшая, она чуть не плача вбежала в квартиру, не веря своему счастью, скидывая на ходу сапожки, и трепетной ланью кинулась в туалет.
– Запасные-то есть?, – спрашиваю, собирая свои причиндалы в чемоданчик.
– Есть-есть!.. Ой, спасибо вам!.., – кричит Оля уже из ванной, шумя водой, – Ой, как же хорошо!.. Какой же вы молодец!
Выйдя в коридор и чуть помешкав, она осторожно спрашивает:
– Сколько я вам должна, молодой человек?
А я улыбаюсь:
– Нисколько. Андрею Васильевичу привет передавайте. От «Очкарика»…
И мы смеёмся, и я пытаюсь уйти, а она смешно пугается и вдруг протестует:
– Да вы что? Ну-ка, зайдите! Вы что?!. Ну-ка, ну-ка!.. Одну минуточку!..
И тянет меня за рукав, и бежит на кухню и кричит оттуда:
– Минуточку постойте!.. Слышите?.. Не уходите пока!..
И через пять минут я иду обратно в свою часть со здоровенным пакетом, полным яблок, печенья и конфет…
…А через несколько дней Небесный опять вызвает к себе. Смотрит странно, будто разыграть хочет:
– Адрес помнишь? Олин…
– Помню, тащ-капитан.
– После семи часов иди к ней… Она в семь будет дома. Чё-то там у неё с кондиционером.
И опять смотрит, будто смех с трудом сдерживает.
Я сходил. Почистил кондиционер, поменял дребезжащий штапик. Меня за это напоили мятным чаем, собрали мне пакетик с колбасой, баночкой грибов и конфетами. Сгорая от стыда, я мямлил благодарности, а Оля хищно следила, чтобы я не удрал без её гостинцев… Караул какой-то.
С Олей мне было очень легко общаться. Да, по всему видно, она чуть-чуть меня побаивается, как и любая нормальная женщина в такой ситуации, и ведёт себя Оля прямо и без кокетства.
Из рассказа Небесного я теперь знал, что ей 27 лет, что она разведена по причине бездетности, и что её папаша-генерал служит где-то в штабе московского военного округа, почему от Оли и шарахаются местные ухажёры. Оля действительно была очень хорошей женщиной. Знаете, каждая женщина красива по своему. Есть женщины красивые и грациозные, как кошки. Есть миленькие, как ребёнок. Бывают прекрасные женщины, красивые, словно вечерний закат. Так вот, Оля была красива, как лошадь. Да-да, именно как лошадь. Вернее, лошадка. Высокая (на голову выше меня), с прекрасной фигурой, шикарными тяжёлыми волосами, Оля смотрит прямо и честно, не смешливая, но любопытная. По всему видно, что живёт она одна давно. Дома уютно. Фотографии в рамочках на стене собственноручно обклеены ракушками. Чай душистый от души. Хоть и в брюках, а ножки Оля держит вместе и в сторону, не растопыривает. Прекрасные зубки, ноготки стерильные. Совершенно спортивная фигура неожиданно приятно гармонирует идеально очерченным пикантным излишком в бёдрах…
А в квартире у Оли сплошные неприятности… То шурупы на дверной ручке вывернулись как-то сами по себе (а в мусорном ведре лежат сломанные ножницы), то форточка громко захлопывается… Работы уйма, короче!.. И звонил теперь Небесный всё чаще.
…Обо мне поползли слухи.
Небесный уже не скрывал своего раздражения, и отводил глаза, хмурясь:
– Ты это… Слышь!.. Алик!.. Завязывай, давай!.. Хорошая она баба… Женщина. Тебе на дембель скоро. Не лезь к ней!..
И очень внимательно смотрит мне в глаза, проверяет, вру я или нет.
– Василич!.. Нету там ничего!.. Чё я, дурак что ли?.. Я её в два раза моложе!..
А Небесный всё равно хмурится:
– Я тебя предупредил. У неё отец знаешь кто? Смотри – башку оторвёт нам обоим. Ты понял?
– Понял.
– После семи сегодня она ждёт. Чё-то там с форточкой… На кухне…
И опять глаза в сторону.
И вот я хожу к Оле ежедневно. И Небесный уже не объясняет мне «зачем», а просто мрачно кивает, когда я из строя бросаю только ему понятный вопросительный взгляд.
Сразу же оговорюсь – с Олей я не спал. Мне было 19 лет, и я в этом возрасте был олух застенчивый. А с Олей мы просто не могли наговориться. Такую родственную душу я, пожалуй, не встречал потом больше уже никогда. Мы часами обсуждали Булгакова. Потом спорили чуть ни до драки о Чехове и Ницше. Потом она благоговейно включала что-нибудь из Пинк-Флойда, и мы молча наслаждались музыкой. Или просто ржали, просматривая телевизор, сидя плечо к плечу на маленьком диванчике.
И вот дошло до самой интимной части моих похождений.
Как-то я в шутку предложил:
– Потанцуем?
– Давай, – просто и не задумываясь ответила Оля, и мы изо всех сил «не смущаясь», всю кассету танцевали медленный танец в полтретьего ночи, тихо смеясь над собой, двумя придурками…
…А слухи уже делают своё дело. Где-то в курилке видимо произошёл групповой разговор. Потому что в одночасье большая часть офицеров вдруг шарахнулась от меня в сторону, как от прокажённого, а другая часть стала откровенно хихикать при встрече со мною, и я делал вид, что ни фига не понимаю. Но были и такие, чьи лица при встрече со мной омрачались злостью, и я понимал, что «доиграюсь» в конце концов. И доигрался.
…Был у нас прапорщик Ларичев, с чьей-то подачи называемый всеми «Ларсоном». Он где-то торчал на вещевых складах. Появлялся в казармах и у нас в цеху он редко, а если и появлялся, то было видно, что Ларсона недолюбливают. Туповатый и странный кекус. Сослуживцы зло посмеивались над ним, не стесняясь в выражениях, даже при нас-солдатах называя его «тормозом». Так вот этот Ларсон в один прекрасный момент был назначен сопровождать нас, нескольких солдат, на какие-то работы. И надо же такому случиться, что мы посреди белого дня случайно встречаем Олю, и она бросает мне незаметную улыбку из далека. И мы проходим спокойно строем, а когда отходим подальше, Ларсон хлопает меня по плечу, и говорит специально «для всех»:
– Чё? Как у неё? Нормально нырнул в пилотку?
Оглядев строй и не дождавшись смеха, Ларсон один смеётся, а потом зло поджимает губы.
Я иду молча, а он не унимается:
– Чё молчишь? Все знают уже…
И опять ржёт.
Я поворачиваюсь, и между нами происходит двухминутная беседа, которую я начинаю:
– Вы о чём, тащ-прапорщик?..
…и заканчиваю уже на повышенных тонах:
– … это ты сам сейчас у меня «договоришься», мудак!..
И Ларсон тащит меня в ШИЗО, и я получаю десять суток ареста, «потому что угрожал», и Небесный вытаскивает меня только через двое суток, и, нервно захлопнув за мной дверь в своём кабинете, зло кричит мне:
… – Задолбал ты меня со своей Олей, Гасанов! Понимаешь? За-дол-бал!.. Тебе чего, неприятности нужны что ли?!..
И я мямлю чего-то в своё оправдание, а капитан хлопает ладонью по столу:
– Ты чего, не можешь спокойно до дембеля дожить? А?..
– Могу.
– А какого хрена ты к ней прицепился?!.. А?.. Какого хрена – именно к ней?!!.. Больше баб нету, что ли?!!
И я тоже взрываюсь и задираю брови:
– Хренасе!.. Тащ-капитан!.. Вот вы даёте!?.. Я – прицепился к ней?.. Я – что ли к ней себя посылал?.. Ни фига себе вы!..
И Небесный вздыхает мрачно, и я вместе с ним:
– Когда у тебя дембель-то?
– В мае был…
И он смотрит на меня, стараясь злиться, и так всё зная и понимая за все мои грехи:
– И чего ты не ушёл в мае?.. Уже три месяца переслужил!.. Чё вот делать с тобой теперь?..
– Арестов много…
И мы пятнадцать минут молчим, хмуро думая об одном и том же, пока он не глянет на наручные часы:
– Иди уже… Звонила в обед… Чё-то там у неё… Опять…
И я не знаю куда деваться от его глаз, а он у порога меня окликивает, жестом приказывая прикрыть дверь, и спрашивает в упор:
– Точно у вас там?… Ничего?
…Слухи неминуемо дошли до штаба части. И я с неприязнью уже отмечал, что некоторые офицеры с огромными звёздами на погонах ведут себя, как пацаны, шепчась у меня за спиной при встрече:
– Вон, видишь?.. Вон, рожа очкастая… Вот он и есть!.. Тот…
…Я потом спрашивал Олю об этом, и она громко смеялась, абсолютно презирая сплетни:
– Пусть боятся. Меня тут все боятся. Дурачьё!.. «Офицеры», блин!..
– А я?, – я пытался придать серьёзность проблеме.
– Да и по тебе видать, что наплевать тебе на них.
– Я-то уеду когда-г=нибудь… А вы?..
И мы смеялись, а потом меня кормили потрясающим борщом, и мы опять танцевали, а я одуревал от запаха её волос…
…Суету вокруг меня в тот день я заметил уже с самого утра. Не знаю, чем это было вызвано, и могу только предположить. Скорее всего, в часть кто-то должен был приехать. Не удивлюсь, если сам Олин папаша. И вот меня срочно вызвали в штаб. Причём ни как обычно, мол, «рядовой такой-то, срочно явиться туда-то», а подошёл дежурный по части и дал мне час на сборы, объяснив, что сейчас я поеду домой. Потом оказалось, что он ждал меня в пустой казарме (!), пока я мылся-брился, и это тоже было странно. На мой вопрос, «почему такая спешка?», он только махнул рукой, мол, «и сам знаешь!»… Прощаться мне было не с кем. Мои сослуживцы уже давно «дембельнули». Наученный горьким опытом, что чаще всего я попадаю не туда, куда меня обещают поместить, я был уверен, что меня переводят в другую часть, но в штабе мне сунули «военный билет», проездные деньги, и вот дежурный сам лично стоит возле автобуса и ждёт, когда я уеду!..
И я сидел в полупустом автобусе, и у меня затекала шея, потому что сзади дежурного стояла моя Оля, и я не мог на неё смотреть.
…Как-то я даже порывался ей написать. Но не написал.
Медвежатник! Из РПБ! * – кто не помнит, медвежатник – в уголовной среде взломщик сейфов. РПБ – ремонтно-поверочная база, подразделение, в котором я Родину защищал с мая 89 по сентябрь 91-го.
****
Как по-русски «кирдык»?
.. – Во-первых, не кирдык, а кер-дык, – подсказывают аккуратно, чтобы не обидеть мою «нерусскость».
– «Кер-дык…", – покорно переписываю я, и варежку разеваю, жду пояснений, – Ну?
– Чего?
– Шо такое ваш кердык?
– Нужно говорить «что», извините. «Шо» – это по-украински.
– Чё?
– «Шо», говорю, это по-украински. А по-русски нужно говорить – «что», – тут же заметили, что я краснею, осторожно усмехаются, – Вы извините, я просто не люблю, когда засоряют русский язык.
– Да ни чё…, – улыбаюсь. Как-то пошло пошло всё сразу, и я начинаю кривляться зачем-то. «Пошло» – это значит или оно начало двигаться со скоростью ходьбы, или оно безвкусно в эстетическом плане. А второе «пошло» – это совсем наоборот, значит, – Так и чё там насчёт «кердыка»?
– Ну… Кердык, по-русски это значит… Э-э… Значит конец всему. Хана!
– Хана?
– Ну… Значит… Буквально обозначает, что дело завершено неожиданно, без ожидаемого результата… Амба, значит!
– Амба?, – (я чуть не написал «жопа», аж вздрогнул).
– Ну… Вы это… кстати это слово тут в действительности не пишите лучше. Выпрут нафиг.
– Какое? На «жэ»?
– Да. На «жэ».
– Хорошо, не буду. (Тоже мне, фокусы… Слово есть, а писать его нельзя…)
– Это бранное слово.
– Как «сволочь»?
– Ну, да…, – косятся.
– А «козёл» писать можно?
– Хм…, – косятся ещё пристальнее, – «Козёл» – это нормальное слово… Чего вы? Литературное русское слово…
Я невольно смеюсь, видя, что начинаю пугать:
– Вы извините меня, ради бога. Просто я пытаюсь соблюдать… э… эти правила… Слово на «жэ» – это ругательство. А «козёл»? Тоже ведь ругательство? А почему его можно писать?
– Вы о чём?
– Ну, это… Если, к примеру: так вот меня при людно если вы назовёте… гм… на букву «жэ» – я только посмеюсь. А если вы меня козлом назовёте – меня это оскорбит. Но, тем не менее – «козёл» писать можно, а на «жэ» – нет.
– Вы о чём?
– Я говорю, что существует правило: слово на «жэ» – это ругательство, и приличные люди его не пишут и не произносят всуе. Так?
– Ну…
– Но есть масса слов, которые в сотню раз… как-бы это сказать?.. «Ругательнее»! А произносить и печатать их можно запросто. Разве это не странно?
– …, – на меня уставились молча и без интереса, и это ожидаемо обычно. Вечно я голову людям морочу.
– В русском языке, я говорю, есть масса слов (литературных слов, я подчёркиваю!) в сравнении с которыми ваша «жэ» – просто ангельское сияние, – замечаю, как поджали губы, – Я имел ввиду не именно ваша «жэ», а слово на букву «жэ». Извините.
– Что вы хотите от меня?
– Простиите. Я обидел вас?
– Нет. Просто вы куда-то не туда всё время… Есть простое правило – ругательные слова не употреблять. И всё. Что тут не понятного? Это неприлично, и… вообще… Не красиво.
А я всё не угомонюсь:
– То есть написать на стене «жэ» – это неприлично, потому что это ругательство, а написать, к примеру… э… ну, например «мразота» – это ни чего страшного. Потому что «мразота» в сравнении с «жэ» – более безобидное и допустимое?
– Чего вы молчите?
Нет, я совершенно живо представил разницу. К примеру… э… ну, такая вот ситуация. Экспромт:
Я случайно пачкаю вас мороженным, к примеру. Представили? Да. Я прохожу мимо, а вы сидите на лавочке, читаете Шолохова, а я неловко куснул, и пол мороженного вам на причёску уронил. Представили? А теперь представьте, какая будет разница нашего диалога, если в первом случае вы воскликните:
– Ах ты «ж…»!
А во втором:
– Ах ты мразота!
…Вижу, что сбил спонталыку. Сидим, молчим.
Не сдаются:
– Руга-ательные слова-а писа-ать, говорю, нельзя. Всё! Точка!
– Хм!.. А «мразота», значит – это не ругательное?
– «Мразота»… Это… Нет, ну почему же?.. «Мразота» – это тоже ругательство, только оно литературное ругательство. А существуют ругательства не! литературные. И это правило. Понятно?
– Нет.
– Чего не понятно?
– Почему одни ругательства можно писать, а другие нельзя? Кто установил такие правила?
– Как «кто»? Всегда так было принято…
– … кем?
– … что некоторые слова… Что вы ко мне прицепились? Мы вообще начали с «кердыка»!, – неожиданно хорошо смеёмся мы вместе и с удовольствием, – Вот вы зануда, ей-богу!, – ржём совершенно по-дружески, и это хорошо. Обычно я обижаю людей своей занудностью. Вон одной уже не понравилось название мой книжки. И как ей объяснить, что «Ото ж бо и воно!» – это и не по-русски, и не по украински?
– А сейчас вы будете меня учить, как правильно написать по-русски «кердык»?
– Да. По-русски пишется «кер-дык». Понятно?
– Понятно.
Опять хохочем, и я стараюсь продлить это веселье:
– А чё это?
И на меня уже просто машут лапками, угрожая побить, и мне это нравится, и буквально через пять минут мы опять заходим в неразрешимые дебаты на тему: «Почему слово «дерьмо» – писать и говорить можно, а слово на «гэ» – писать нельзя, потому что это не литературно.» А к концу беседы меня побили-таки, потому это что слово, которое писать (!) нельзя – я говорю с ошибкой и украинским акцентом – «гамно!"… А это не по правилам.
****
Чики-чики
Старинный мой дружбан Андрюха Ковальчук после армии ни с того ни с сего в участковые подался. Нефиговая такая реакция, знаете ли… Вечером на тебя сзади налетает кто-то, рожу снегом растирает, роняя в сугроб, хохоча заразительно и оря «Здоров, братуха! Алик, ты что ли!?». А Алик с удовольствием брыкается, мгновенно узнав голос, и тоже его гада длинноногого в снегу кувыркает, ухи ему бантиком на макушке накручивая, и вдруг видит Алик, что ухи он крутит уполномоченному участковому лейтенанту полиции Ковальчук. Пять минут пистолет в сугробе искали… И, вот благодаря Андрюхе моему, у меня периодически всплывают истории, отношение к которым я имею совершенно косвенно. А было вот чего:
Жил у них в доме старик один. Я имею ввиду, в доме, где находится (и до сих пор скорее всего!) опорный Андрюхин пункт полиции (тогда ещё – милиции, конечно). И вот старикан этот (и фамилия такая диковинная, что я до сих пор её помню отлично – Мазур. То ли еврей, то ли немец, а звали старика Мазур Герман Генрихович!). И вот, жил себе Герман Генрихович прямо рядом с опорным пунктом. Жил один в двухкомнатной квартире. Мужик тихий и неприметный. То в магазин за хлебушком выйдет, то пенсию тащит с почты. А время летит, и Андрюха уже капитана получил, а Мазур всё стареет, и пьёт потихоньку. Принесёт в авоське бутылочку с помидорками, клюкнет негромко, и голубей крошками кормит, или телевизор смотрит. И вот стал замечать Андрюха, что к Мазуру стали шастать всяко-разно. То один небритый с фингалом припрётся, то сразу четверо пьяных вумат заходят. И стал у Мазура притон. Андрюха по своей служебной обязанности стал наведываться к старику:
– Герман Генрихович! Чего это вы тут у меня под боком устроили?
А в квартире у Германа уже срач неимоверный, бутылки валяются, и запах из квартиры некрасивый – то наблевала какая-то скотина прямо у порога, то свежую кровь на стене дед замывает с утра – видно скотине и рожу кто-то начистить успел. И дед оправдывается виновато:
– Извините, – говорит, – Андрей Василич… Не повторится больше.
И тем же вечером Андрюха уже вытаскивает за шиворот из квартиры Мазура очередных гостей, которые расшумелись так, что соседи милицию вызывают.
– Герман Генрихович!, – уже покрикивает Андрюха, – Какого чёрта вы их пускаете? Как их зовут вообще? Кто это такие?
А дед ни то, что не знаком с гостями, а и смотрит на них со страхом. И действительно, рожи неприятные. Придут ни свет, ни заря, кто хошь ночевать останется, дверь чуть не ногой открывают.
– Я вашу квартиру ставлю на учёт!, – сурово выговаривает участковый, – Как «сомнительную»! Ограничения вам ставлю: после девяти – никаких гостей! Буду приходить – проверять! Ясно вам?
Дед вздыхает виновато.
– Устроили чёрти-чё! Кто вам лицо разбил?
А дед ладонью синее ухо прячет. Уже который раз Андрюха замечает – деда бьют. Дед сутулится, прихрамывает, исподлобья зыркает, губа опухшая. Все нервы дед участковому вымотал, короче говоря.
– Где ваши родственники? Кому мне позвонить?, – лютует Андрюха.
А дед вздыхает только, отворачивается:
– Нету у меня никого…
Года два Андрюха воевал с Мазуром.
А в квартире всё хуже и хуже. Среди ночи опять вдруг звонок:
– Ковальчук! Опять у тебя там буровят!
И бежит Ковальчук к Мазуру, а у Мазура в квартире бойня. Нажралась пьянь да рвань, деда побили, мебель перевернули, передрались, соседей двадцать человек на галерее возмущаются:
– Да что же это такое, а? Совсем совесть потеряли? И куда милиция смотрит?!
… – Задолбал ты меня, Герман Генрихович, – орёт в опорном Андрюха, заполняя очередной протокол, – Вы чего добиваетесь? На кой чёрт вы опять их домой притащили?!..
– Да кто их тащит?, – чуть не плачет дед, – Сами они!..
А дед уже совсем плохой. Зубы передние ему кто-то высадил, и дед еле ногами ворочает. Деда поят каждый день на его же деньги, и дед уже на ладан дышит. И слёг дед. Совсем не встаёт. Андрюха с соседями согласовал, и вот за Мазуровой квартирой соседи следят зорко, чуть какая сволочь подойдёт – тут же участковому звонят, и Андрюха сурово каждый день то одного субчика, то другого за шиворот таскает. А дед лежит и не встаёт. Соседка сердобольная ему раз в день тарелку таскает, кормит. А дед зарос, как леший, лежит среди хламья, трясётся в поту. Соседка вечером с Андрюхой шепчется:
– Весь вшами покрыт, Андрей Василич!.. Я как глянула – мама дорогая! Я думала – он грязный, а он вшами покрыт, как…
И чего делать с таким? Оформлять куда-следоват, то да сё…
– У него что, вправду никого нет?
– А бог его знает… Сколько лет тут живу – никогда не видела, чтобы у него кто-то был. Жена у него умерла совсем молодой… Так и живёт один вроди…
Андрюха справлялся в управлении, как быть с дедом, и в управлении квартира Мазура была уже знаменитой:
– Оформляй в дом престарелых, что-ли…
– Да как оформлять-то?.. Квартира не приватизирована… Инвалидности нет… Только через суд… А суд месяца два волынку тянуть будет… И то…
– И чё делать-то?..
– А хрен его знает… Дед уже совсем плохой. Не ест несколько дней. Кожа да кости… Я вечером зашёл, гляжу – вроди спит. В квартире у него сумрачно. Дед лежит весь серый. Я думал помер, за плечо его дёргаю: «Герман Генрихович!», а у него всё лицо аж переливается! Вши!
Андрюха глаза таращит, и у меня всё зачесалось аж:
– Прикинь? Весь вшами облеплен! Спинки блестят… Я тронул, они бегут, шевелятся… Кошмар какой-то!..
Помер дед, короче говоря. Печальная история. Комиссионно описали имущество квартиры, диван, стол, холодильник… Два мешка тряпок, ковёр на полу. При понятых Андрюха запер дверь и опечатал квартиру.
– На пол-года опечатывается в таких случаях. Вдруг кто появится. А потом через суд муниципалитету отходит. Такая хрень…
Деда «похоронил город». И стал Андрюха ждать полгода.
Но через неделю после похорон к Андрюхиному опорняку подъехала «Toyota-corola» белого цвета. Мужик лет сорока внимательно прочитал бумажный лоскут, коим была опечатана дверь Мазуровой квартиры, и пошёл к участковому:
– Здравствуйте. Вот тут вы опечатали… Написано «обращаться в опорный пункт». Вы Ковальчук?
– Да., – вскакивает Андрюха, – Здравствуйте. А вы кто?
– Я сын, – мужик протягивает паспорт в кожаной лакированной обложке.
– Мазур Виталий Германович…, – читает Андрюха, совершенно уверенный, что мужик не иначе, как только что из аэропорта… С Владивостока, небось, думает Андрюха, почему-то представив именно Владивосток, как самый дальний город в своей памяти, – А откуда вы?
– Что, простите?
– Проживаете где?
– В седьмом районе.
Тут я отступлю немножко.
Дело в том, что опорный пункт Андрюхин у нас в городе находится в третьем районе, а седьмой район… Вот представьте себе, например… Нет. Вы на «Красной площади» в Москве были, к примеру? Да, Кремль, Москва, Красная площадь. Если не были, то посмотрите по телеку. Так вот, я, уроженец города Шевченко, присягаю вам сейчас на сборнике своих рассказов, что расстояние между третьим и седьмым районами в городе Шечвенко примерно равняется длине двух Красных площадей. Километр, короче говоря.