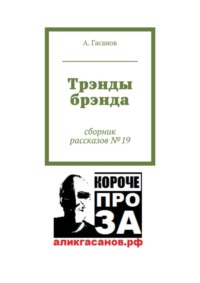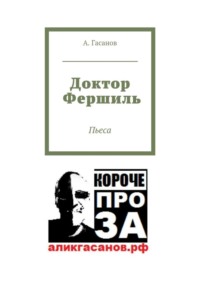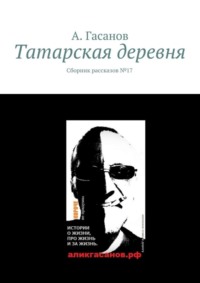Полная версия
240. Примерно двести сорок с чем-то рассказов. Часть 1
…Я часто их вижу в парке. Леночке уже лет десять. Людмила Викторовна неспешно проходит с послушной внучкой под руку вдоль аллеи. Скорбно, еле заметно кивает на приветствие. Внучку она называет «Сир-ротка моя» и гладит по голове, печально вздыхая. За Лёху не слышно ничего.
…Снилось вчера.
– И ведь соврёт и не покраснеет, свинтус!.., – Людмила Викторовна усмехается, головой покачивая, – Где ж ты успел поесть-то?.. Ну-ка.. давай… наяривай!.., – подкладывая варёной картошки в Лёхину тарелку, она подпевает, – «… а-ну, давай-давай, наяривай,… гитара семиструнная…»
Лёха в который раз мотает головой, не в силах уже смеяться, вздыхает обречённо, по пузу себя хлопает, любовно подмигивая Леночке, старательно обгладывающей куриную ножку:
– С ума с вами сойдёшь, Людмила Викторовна!.. Лопну же!..
– Давай-давай!.., – смеётся Маринка, украдкой поглядывая на мать, улыбаясь во всю рожицу, – мне худой мужик не нужен!..
– Конечно «не нужен»!.. Кому же тут худой мужик нужен?.. Один у нас мужик!. Нам худой… Не нужен!.., – весело подхватывает тёща, и изловчившись, подбрасывает Лёхе зелени.
– Да, лопну же, Мань!…, —Лёха поворачивается к жене, растягивает лицо в небритой улыбке.
– А вчера «Пусть говорят» не смотрели?, – Людмила Викторовна заканчивает с Лёхиной тарелкой, меняя тему, хитро подкидывая туда ещё и котлетку и пару маленьких солёных помидорчиков, – Я как глянула… Боже мой!… Боже мой!… Да чего ж людям надо-то ещё?.. Марин!?.. (краснеет, сжимая брови, сглатывает накатившую слезу) … Ты представляешь (шмыгает носом): Семь лет!.. Семь лет!!!.. мать своего сына искала!… Семь лет!… Мань…
Людмила выскакивает из-за стола, намереваясь убежать на кухню, что бы не увидели, как она плачет.
– Мам!.., – Маринка встаёт, идёт следом, оборачиваясь на мужа.
Лёха поджимает губы, улыбаясь: «Иди-иди!..»
Когда жена уходит, он вздыхает: «ну… женщины!..», наливает себе в рюмку, наклоняется к дочери:
– А чего ты без хлеба кушаешь, Кукусик?.. Смотри, какой хлебушек хороший…
Леночка, измазанная куриным жиром, глодает хрящик, делово осматривая тарелку, соображая, взять ещё кусок или нет:
– А чё баба плакает?..
– Надо говорить – «пла-чет»…, – Лёха гладит дочку по головке, улыбаясь нежно. А с кухни еле слышно:
– … Семь лет, Мань!… Семь лет!..
– Ну… Не надо, мам… Не надо, родная моя…
****
Артисты
…Поездом мне пришлось ехать всю ночь. Поездка, мне кажется, самое приятное изобретение человека. Ведь это действительно приятно – разместиться поудобнее, подоткнув под себя шмотки-манатки, и, сладко отмечая, что всё вокруг разумно и закономерно, отдаться на волю грёз и фантазий, благо объектов для созерцания – море. Вокруг меня бегут чьи-то судьбы, обрывки фраз оседают в голове, а впереди целая ночь, и ты законно бездельничаешь, словно сытый кот с яблони наблюдаешь окончание свадьбы во дворе, когда гости уже выдохлись, и уборка столов отложена на утро. И, хмелея от убаюкивающего стука колёс под плескание литра пива в животе, я мудро размышляю о бытие вещей, украдкой любуясь линией талии девушки в спортивном костюмчике, что-то душистое втирающей в хорошенькую мордочку перед крохотным зеркальцем. Ко сну готовится, чистюля… Уставший проводник проходит вдоль открытых плацкарт, заглядывая, бормочет озадаченно что-то. За ним осторожно пробирается здоровяк румяный:
– Та там тильки одну ночь!.. Бабушка ста-аренькая!..
– Да я понимаю, что «одну ночь»…, – проводник вздыхает, в тон здоровяку мягко оправдывается, – Я ж говорю, если только кто уступит… А тут кто?, – негромко кивает он мне, неслышно похлопав по нижней полке подо мною.
Я всегда готов помочь в ответ на вежливость. Мало того, я ещё и обострённо сообразителен после пива, как я заметил:
– Тут женщина с ребёнком. В туалет пошли… А что, именно нижнее место нужно?
… – Да…, – проводник неопределённо тянет, оглядываясь.
Все нижние полки заняты. Там дед храпит. Тут полная дама доедает «бич-пакет», тоже вряд ли удобно её «наверх» попросить. Свободных верхних полок в вагоне штук десять. А бабульку срочно отправляют поездом. На перроне с десяток людей её бережно провожают, двое ходят, помогают проводнику найти, с кем поменяться на «нижнее», ибо бабулька древняя, закинуть её наверх ни каких проблем, сухонькая, маленькая, а всё боязно, убьётся ночью.
… – На Сухоревке её встретят, – десятый раз здоровяк объясняет проводнику, – Тут ехать-то… Часиков восемь… Неужели не пристроим, товарищ проводник…
… – А тут кто?, – проводник хмурится, вздыхает, тихонько пробираясь по сумраку засыпающего вагона.
Со здоровяком они остановились перед мужиком лет сорока, сидящим за столиком.
– Мужчина…, – мягко начинает проводник, и здоровяк благоговейно замер сзади, расплываясь румяной улыбкой, – Вы не могли бы поменяться? Женщина очень взрослая. А у неё верхняя полка. Ей до Сухоревки только… Очень нужно.
Мужик быстро дожевал пирожок, и поставил стакан на столик:
– А я при чём?
… – Понимаете…, – синхронно начали здоровяк с проводником, и проводник строго оглянулся, и тот покорно заткнулся, обе ладони прижав к улыбке, – Понимаете, все места нижние заняты. А бабушка очень взрослая…
… – Девяносто два года!…, – быстро шепнул сзади здоровяк, виновато склонив голову.
… – Неужто мы её заставим на верхнюю полку лезть?.. Если вам не трудно…
Мужик нахмурил брови, и стал размышлять над проблемой, ерзая и выглядывая в проход:
– А вон там чего?
… – Там не получится. Там тоже пожилые.
– А там?
… – А там с ребёнком. Женщина. Придут сейчас.
Мужик посочувствовал, что действительно проблема есть, и когда здоровяк подвёл к нему крохотную бабку в платочке, и поставил рядом с бабушкой узелок, до него вдруг дошло, что ему предлагают уступить своё место.
… – Не-не-не-не-не!…, – мужик зашептал так горячо, аж руками замахал, мотая головой, – Вы что? Не-не-не-не!…, – подкрепил свой ответ, широко расставив ноги, занимая законную полку, – Вы что?.. Я специально беру нижнюю. Вы что? Никак не получится!..
Проводник со здоровяком чуть опешили и замерли, и проводник дал мужику горячо прошептать, и опять начал деликатно, кланяясь, и поднимая брови:
– Я очень вас прошу. Больше нет вариантов. Мы уже десять минут по вагону ходим… Понимаете? Вам же не трудно совсем… Только…
… – Не-не-не-не…, – мужик отмахивается, как от мухи, всем видом показывая, что даже и слушать не будет этот бред, – Вы что? Уто я себе билет покупал, щёб кому-то там место уступать, что ли?..
… – Я вас очень…
… – Не-не-не-не-не!…, – мужик аж привстал от негодования, отмахиваясь, зашептал громче, совершенно расстраиваясь, – И я тут при чём?.. Уто я буду себе билеты покупать, щёб… Не-не-не-не-не!.. Вы что?!…, – шумно плюхается на своё место, громко отхлёбывает чай, шумно ставит стакан, – Уто оно мне надо?.. Ни чего не знаю!.. Вы что?.. Издеваетесь?..
… – Что вы ей-богу, мужчина!…, – полная женщина подала голос из прохода, увидев, что бабульку осторожно повели обратно, – Вам же совсем не трудно?.. Сделайте такую милость!..
А мужик на первом же её слове уже говорит с ней одновременно, распаляя себя:
… – Придумать же такое!.., – нервно усмехается, – Ты смотри, ей богу!.. Уто я себе билеты покупаю, чтобы всем подряд потом уступать, смотри ты на них!.. Да?..
– Да нету тут места больше! Мужик! Трудно что ли?, – рычу я сверху из своего дупла, и женщина, почувствовав поддержку, тоже говорит погромче, – Мужчина вы, или нет, в конце концов?.. Неужели вы не понимаете?..
А мужик разошёлся:
– А оно мне надо? Оно мне надо?!, – кричит он в проход, упёршись руками в верхние полки, всем видом показывая, что грудью встанет на защиту своего места, – Вот сама бы взяла и уступила, раз такая умная!..
– Да что вы, ей-богу?!, – я не выдерживаю, высовывая голову, – Хорош орать. «Внизу» только женщины и старики… Не видишь?… Неужели…
… – И щё мне теперь?!, – переключается мужик на меня, – Сам бы взял и уступил?, – аж губы побелели.
… – У меня верхняя полка! Дядя!..
… – Ага!…, – мужик не слушает, горько качая головой, словно лев в клетке, ищет поддержки во взглядах, нараспев качая свою обиду, – Умные все, гля… Уто я буду…
И всё в таком духе. Он не пытается даже на секунду предположить, что ему придётся отдать своё.
Нервно допив чай, он остервенело вытер невидимые крошки, пять минут уже расставляет стакан и тарелку на столике, расправляя салфетку, не находя себе места.
Поезд плавно пошёл, и мы с женщиной высунулись в проход, вытаращились друг на друга. Что с бабкой-то?
А за несколько купе от нас смуглая девушка с грудным ребёнком сама вызвалась, и усаживает бабку на своё место, и добренькая, словно из мультика, бабка, шамкает беззубым ртом, и гладит девушке руку, и благодарит неслышно, а сонная девушка улыбается ей сдержанно и осторожно укладывает спящего малыша наверх, а потом осторожно укладывается рядышком, подпихнув под поясницу простынь.
… – Уто мне оно надо?.. Надо?.. Артисты, ей-богу!.., – всё тише бухтит мужик, и поезд разгоняется, стучит, покачивается, и я скоро начинаю дремать, но просыпаюсь уже через пару минут от резкого крика:
– Да заткнёшься ты уже, скотина? Спи уже!..
Дед, спавший напротив мужика, не выдержал видно его причитаний в темноте…
****
Бамбалейло
…Жарко было, помню.
Почти обед, и солнышко раскачегарилось ещё не очень, но уже и хватит, кажется.
Я в своей «десятке» стою на ж/д-переезде.
Фу, жарища…
По дороге «плавится» вдали…
Тут всегда не просто проскочить, постоянно пробка собирается.
Ни с того ни с сего вот так закрывается шлагбаум, и из-за поворота медленно выползает состав вагонов, жалобно скуля и скрежеща, и останавливается, скотина… И сидишь в машине, и машина нагревается… И ты потеешь…
И стоишь так, говорю, ты под звонками семафора, и скучаешь.
Иногда так и полчаса простоишь.
…Дорога – две полосы. Ряд – туда, ряд – «встречка».
Нас, бедолаг, перед шлагбаумом собралось уже машин пятнадцать, кто-то даже покурить вышел, кто-то движок заглушил, окно протирает.
Поезд стоит уже минут пятнадцать, звонки дребезжат…
Жарко.
В это время по встречной полосе мимо нас на большой скорости проезжает огромный «лексус» помидорного цвета:
– Бамбалейло-о-о-о! Бамбалейло! Фартуна иф ю эт кульпа миа иф ка! -ра! -сон!.., – весело орёт из «лексуса», – Бамбалейло-о-о, бамбалело!..
Мы с интересом наблюдаем, как джип останавливается в сантиметре от шлагбаума и начинает сигналить…
В джипе сидит пухлый паренёк лет двадцати в шикарных очках. На руке цветная татуировка и толстый золотой браслет. Хмуро выглядывая из окна, паренёк опять нервно сигналит, недобро поглядывая на поезд, хлопая пузыри жвачкой. А поезд длинющий такой, что и не видно, где у него голова, а где ж… эта самая.
– Бамбалей-ло-о!…
Паренёк, видимо не привыкший, чтобы его останавливали, сигналит демонстративно длинно, начиная злиться и выглядывать в окно, вытягиваясь по грудь. Майка чёрная с чудовищным оскалом.
Сквозь верещащие звонков и его «бамбалейло» я смутно слышу его негодующие восклицания в адрес поезда. Оглядываюсь и вижу, что весело ни только мне одному. Некоторые аж из окон высунулись, наблюдают, как паренёк, уже злющий, как сто чертей, вышел из джипа с явно недобрыми намерениями, даже дверь не закрыл, «бамбалейла» орёт в два раза громче.
Невысокий и холёный, пухлый крепыш нервно подходит к шлагбауму, словно несёт невидимые арбузы под мышками. Взгляд такой, будто разорвёт на куски он сейчас это чёртов поезд.
Мужики ржут, хлопая себя по коленям.
– Бамбалейло-ло!… Бамбалейло…
Всё продолжается минуты три и паренёк даже куда-то нервно звонит, с ненавистью поглядывая на вагоны, сплёвывая в сторону поезда с презрением. И вдруг поезд дрогнул и со стоном двинулся, слабо потянулся назад!..
Паренёк, видимо решивший, что его угрозы были услышаны, бросает победоносный взгляд на вагон, типа «я ещё тебя поймаю!», грузно вползает в кабину и нервно газует, торопя шлагбаум.
…Предсмертно протянувшись на пять метров вперёд, поезд останавливается…
Потрясённый этим, паренёк на секунду замирает, и выходит из джипа уже с таким видом, что просто «ну-всё-о-о!… ты меня достал…».
Мужики ржут, неприлично переходя на женский визг. Один сел на корточки, закрыв руками лицо.
И я почти уверен, что шлагбаум сейчас сломают.
Покатываясь от смеха, один из мужиков снимает всё на телефон, а паренёк, набрав побольше воздуха, кричит то в один, то в другой конец поезда какие-то страшные вещи, заглушаемый своим же магнитофоном:
– Бамбалейло-о-о!… Бамбалейло…
Приискивая глазами на земле камень, словно для надоевшей шавки, и не находя его, паренёк окончательно выходит из себя, и опять звонит, жестикулируя кому-то в трубку – ” Не, ты прикинь?!».
…Через пять минут поезд опять тронулся и, увидев подходящий к переезду конец состава, паренёк, укоризненно качая головой, нервно плюхается в «лексус», готовый сорваться с места.
Поезд медленно проехал и шлагбаум равнодушно поднялся.
Джип рванул…
…Совершенно ошарашенный, увидев, что перед ним стоит целая колонна машин с противоположной стороны (он же на «встречке»! не забывайте!), паренёк от неожиданности остановился на путях, потрясённо подняв брови…
Через минуту он уже сигналил впереди стоящим, требуя немедленно убрать колонну с дороги!..
Мужики сзади меня, устав от хохота, проезжают мимо него, и каждый считает своим долгом, перекрикивая «бамбалейлу», крикнуть в окно пареньку:
– Ты по встречке едешь, придурок! Убери машину, ишак!..
А паренёк успевает огрызнуться им каждому в ответ чем-то обидным, переключаясь то на нас, то на передних.
…В зеркало я видел, его как джип, «не пропускаемый передними», стал нагло оттеснять наш ряд, но ему никто не уступает, и в завязавшейся склоке к джипу подошёл красный от злости здоровенный бородач и что-то прокричал побледневшему пареньку в окно, и паренёк вжался в сиденье, вытаращив глаза.
Убрать с дороги джип заставили.
Резко рванув влево, «лексус» помчался по обочине, подпрыгивая и поднимая облако пыли, грохоча гравием по днищу…
– Бамбалейло-о-о… Бамбалейло-о!… Фартуна иф ю эт кульпа миа иф ка-ра-сон!.., – несётся из облака.
…Жарко было, помню.
Скучаю я по нему теперь…
****
Вечером
… – А во-вторых!.., – Александр Васильевич переходит на пронзительный фальцет, вытягиваясь перед женой во весь рост, чтобы посмотреть на неё с высока, – А во-вторых!.. Не смей со мною разговаривать таким тоном!.. Понятно тебе?!..
…Анна Ильинична домывает посуду в раковине, неприязненно хмурясь. Муж выкрикивает ей почти в ухо, и она при каждом его слове мучительно морщит лицо. Стараясь перекричать шум воды, высокий и очень худой Александр Васильевич бегает по кухне, негодуя и подбирая слова. В домашнем халате и тапочках на босу ногу он похож на сумасшедшего. Но Анна Ильинична тоже не маленькая. Мощная фигура её аккуратно скользит по квартире, как атомный ледокол. Александр Васильевич зол, оскорблён, но габариты супруги его пугают, и всякий раз, когда она поворачивается, он поднимает к груди руки:
– Понь… Понятно тебе?!.. Я спрашиваю!..
Анна Ильинична выключает воду, туго затягивает кран, вытирает о передник полные красные руки, вздыхает негромко:
– Перестань, Саша… Устала я уже, ей-Богу… Перестань…
Бросив короткий многозначительный взгляд, она легко отодвигает Александра Васильевича с пути, и проходит по кухне, машинально и устало вытирая тряпочкой стол и спинку стула. Окинула кухню взглядом, убедилась, что ничего не забыла, сняла передник, и пошла в комнату. Всё это время Александр Васильевич наблюдает за ней, словно цепной пёс за соседской кошкой, но супруга, так и не увидев его презрения, уходит по коридору. Мало того, она не глядя щёлкает выключателем, и Александр Васильевич остаётся в тёмной кухне, замерев у стола в позе часового. Постояв минуту и налившись ядовитым гневом, Александр Васильевич, громко топая, приходит в комнату, начиная возмущаться ещё в коридоре:
– Нет уж, дорогая моя, ты выслушаешь меня до конца!.. Да!.. Выслушаешь!.. И изволь мне ответить раз и навсегда!.. Раз и навсегда ответь мне!.. По какому праву ты разговариваешь со мной таким тоном?!.. По…, – Александр Васильевич видит, что жена села в кресло, спиной к нему, и взяла в руки шитьё – дырявый носок Александра Васильевича, и мужчина обходит жену, чтобы она его видела, – По какому, я спрашиваю, праву, ты…!?..
Чуть согнув в колене правую ногу, левую свою руку мужчина упёр вбок, глядя свысока, потом выставил правую ногу вперёд, потому что так было не удобно стоять, но выставил её он слишком далеко, и потому вернул ближе, и тут же опять согнул в колене, но все-равно было не удобно, и он поменял ноги местами, не находя удобного положения:
– Я тебя спрашиваю!, – взвизгнул он, налегая на «бя», так, что Анна Ильинична невольно вздрогнула, уколовшись, зажмурилась горько, прижала палец к губам, с неприязнью посмотрев на мужа. Александр Васильевич стоял далеко, сбоку его был проход в коридор, и поэтому он бесстрашно продолжил, поднимая подбородок, чуть тише, и с пафосом:
– Я… Последний… раз!.. Тебя…
Анна Ильинична резко встала, и Александр Васильевич стремглав бросился из комнаты, шумно сбивая на ходу стул. Не обращая на это внимания, цокая языком над раненным пальцем, женщина тяжело прошла в противоположную сторону к подоконнику, где за телевизором была аптечка, взяла пузырёк, и отщипнула ватку. Обработав палец, она посмотрела на укол ближе, покачала головой, морща лицо. Болит. Устало вернулась, подняла стул, хотела опять сесть в кресло, но задумалась, замерла, словно пригорюнилась, глядя в тёмное окно через штору.
Осторожно выглядывая из самого конца коридора, Александр Васильевич занял привычную позу, оглядывая себя в зеркало во весь рост, поправил волосы у виска, говорит громко:
– Я последний раз тебя…
– В коридоре, в тумбочке, – негромко перебивает Анна Ильинична, не меняя позы, глядя на горящий в темноте фонарь и далеко нп холме проходящий поезд…
Александр Васильевич замер на полуслове, сообразил, и быстро прошёл к вешалке, вынул из верхнего ящичка кошелёк жены. Мгновенно натянув трико и куртку, он сунул босые ноги в ботинки, привычно оценил себя в зеркале:
– Аньчу-уль, – пропел он негромко, открывая дверь, – я быстренько!..
И вышел.
Анна Ильинична длинно вздыхает, и, подняв с пола носок, опять садится в кресло:
– Алкаш проклятый…
****
Вася
…Этапом прибыл Вася в середине зимы и сразу же попал в поле зрения как зэков, так и «военных».
Вася ДЕЛАЛ ЗАРЯДКУ. Нет, он не рисовался перед дежурным опером, выбегая раньше всех на поверку, не пытался делать растяжку или отжиматься, чтобы все видели, как он исправляется, выполняя требования распорядка дня. В то время, когда осужденные вальяжно выходили на первую поверку, уже покурив в душевой (а особо шустрые и чифирнув наскоряк), по-пояс голый Вася уже успевал пробежать пару кругов по двору жилбарака, поприседать, и с явным удовольствием растереть, негромко охая, сухое жилистое тело снегом. Не высокий, худощавый и широкий, ни грамма жира, смешливый, но настороженный, третья судимость, руки покрыты вздутыми до предела шлангами вен и колоссально бездарными в художественном плане татуировками. На зубах никотина жменя… В свои сорок семь Вася очень подвижен и инициативен. Безропотная готовность к любой работе и весьма качественное её выполнение, особенно мытьё полов, в его статусе «обиженного»*, сначала ошибочно расценивалась всеми как пресмыкание и подхалимство, но скоро и осужденные и сотрудники колонии с удивлением поняли – Вася НЕ МОЖЕТ не работать. Безделье для него хуже смерти. Его «ну, чё командир, где ещё помыть?» слышно по-десять раз на дню в отряде*. Вася один за троих с шуткой-прибауткой справляется с уборкой, всё время бегом, весело и быстро, аж ударить охота! Подозрительно сначала было и то, что Вася ничего не просил. Суёт ему контролёр пачку копеечных сигарет, а Вася, словно пёс, облизывается, бьёт хвостом, но отказывается, улыбаясь. Возьмёт две-три штуки и убегает, чтобы не заставили взять всю пачку: «Не-не-не… Ты чё, командир?»
…За звериную силу Васю побаивались, тем более, что срок тянул он «по восьмёркам». Ст.88 раньше была за убийство.
Его троюродный брат, хронический алкаш, в пьяном бреду за что-то избил свою дочь, четырёхлетнюю Валечку, Васину племянницу, которую Вася, не имеющий по причине длительных отсидок ни семьи, ни детей, очень любил. Девочка была избита папашей так, что полдня не приходила в сознание, и он прятал её в погребе, чтобы полуживого ребёнка не увидел Вася. Через неделю мёртвую Валечку нашли, и Вася, пока вызывали «скорую» и милицию, повёл заливающегося слезами брата за сарай. Легко повалив пьяного на землю, Вася куском трубы сломал ему ноги, руки, рёбра, позвоночник и проломил череп, после чего сдался участковому.
В «обиженные» Вася попал по пьяной дурости. После «первой ходки» он не просыхал месяц и его, пьяного, привезли в СИЗО, и по ошибке закрыли в «гарем»*, в камеру для этих самых… Утром Вася проснулся, а уже всё. Обратного пути нет.
… – На воле вообще работал?, – чтобы начать длинный интересный разговор с Васей – достаточно задать один вопрос. Контролёру скучно. Все уже спят. Только Вася тихо шарохается по своей каморке. Тут их «обиженных» четверо. Все, кроме него, дрыхнут.
– Конечно, работал. Как же без работы?
Выходят на крыльцо. Вася выпускает в морозную темень длинное облако дыма:
– После профтехучилища слесарил. Потом отца похоронили. Хотел жениться – сел. Восемь и четыре оттянул на восемьдесят шестой в Узене. Потом откинулся * – в морге работал, холодильщиком.
– В морге?
– Ну да. Да там такой морг… Дикость собачья. Прикинь, из четырёх холодильников работает только один!.. Ну, камеры холодильные. Комнаты такие…
– И чё?
– Ну. Только одна работает, да и та еле-еле… Я запарился ругаться. Трупы везут со всего района. Я и сторож, я и холодильщик, я и трупы принимаю. А на улице лето. Жара… Морг хоть и подвальный, а тепло. Темнотища. Ток отключают вечно. Холодильник-то и накрылся… Окошки под самым потолком маленькие, голова не пролезет. Дождик пройдёт, по стеклу черви ползут. А тут ещё коты эти…
Контролёр поворачивается удивлённо:
– Какие коты?
– Коты… Дикие. Половина окошек в морге без стёкол – собака не пролезет, а коту в самый раз. Ага… Бывало, захожу в мертвецкую – темно, страшно, керосинкой свечу, ни хрена не видать… Тут вонь, а тут коты, заразы!.. В темноте глазами зыркают, урчат… Как подходишь – шипит и зубы скалит. Царапается, не подпускает. Глаза выкатит, скотина, шерсть дыбом: «Мя-а-а-а-ууу!» Вся морда в крови…
– Чего?
– Ну да!.. Швы раздерёт, аж наполовину залезет в покойника и жрёт, падла…
Контролёр неприязненно отодвигается:
– Ну тебя на фиг, Вася. Иди спать!
Вася вздыхает, торопливо докуривая, уходит:
– Такие дела…
Где ты сейчас, Василий Демченко из Актюбинска?
обиженный* – один из самых нижних статусов. Практически неприкасаемая каста, используемая на самых грязных работах.
отряд* – жилое спальное помещение.
гарем* – отряд (камера) для низшей касты осужденных (чушков, гомосексуалистов, растлителей и т.п.), обратной дороги оттуда нет.
откинулся* – освободился.
****
Бокс
…В детстве меня очень тяготило одно неожиданное открытие особенности своего характера. Я слишком добрый, оказывается. Нет, я понимаю, что каждый из нас по-своему добрый, и показатели доброты у нас разные. А моя доброта меня часто огорчала, и порой даже пугала. Доброта на грани болезненной жалостливости. Увижу в кино хромую собаку – месяц перед глазами стоит. А если на улице встречу, да ещё замёрзшую, трясущуюся от голода-холода, вообще караул!.. До слёз в горле. Мне, нормальному десятилетнему мужику, это откровенно не нравилось, и я тщетно пытался даже бороться с этим. Перед друзьями бахвалишься своей несокрушимой мужеской жестокостью, а у самого аж голос срывается – так жалко подбитого кем-то воробья, что физически чувствую, как больно и страшно ему сейчас.
…Классе во втором отец уже со мной не церемонился на этот счёт, а пытался сделать меня мужиком любым способом, что мало получалось. Ни за что меня никогда особо не наказывали, я никогда не жаловался, и о моих «поражениях» узнавали лишь случайно.
– А ну, иди дай ему как следует. Ты чего, как девочка?..
Как отец прознал, что этот пацан, старше меня года на четыре, отлупил меня ни за что, ни про что? Это и «отлупил-то» – не назовёшь. Налетел сзади, повалил, и, сидя на мне, мутузил минут десять, ждал, когда попрошу. А я не просил. Никогда не просил. Меня серьёзно лупили в детстве раз десять, и всякий раз я помню тот странный испуг на лицах обидчиков. Теперь-то я понимаю, в чём дело. Я не убегал, не плакал и не жаловался никогда. А самое, видимо, обескураживающее противника было то, что я всегда смотрел в упор, молча, ни за что не подчиняясь. У самого поджилки трясутся от осознания дальнейшего, а сам не шелохнусь. И даже после солидной трёпки с тыканием мордой в грязь – звука не произнесу и не побегу с рёвом ябедничать. Обескураживало многих ещё и то, что избиение не служило поводом тому, чтобы я «больше сюда не ходил». По природе своей я «псих-одиночка», как правило прогуливался один, и помню до сих пор открытые рты вице-обидчиков, поднятые их брови, когда те видят, что я «спокойненько» прохожу мимо, после того, что произошло, причём даже ни вчера произошло, а час назад! И не веду за собой никого! На окрик «тебе чё, ещё добавить?», я останавливаюсь и молча смотрю в упор. Ко мне подходили, даже замахивались часто. Но больше не били, как правило. И это удручало, как ни странно! Неожиданно для себя, я сформулировал в голове свою первую и совершенно ошибочную формулу: «Вот пусть только первым ударит, и тогда я ему покажу!» Это и есть трусость. Если вы слышите, как мужчина говорит: «Я первый не ударю, но если меня разозлят!…”, поверьте – это говорит трус. Самым интересным было то, что «показать» -то я мог! И ещё как мог. На уроках физкультуры учитель всякий раз особо отмечал моё физическое развитие, да и сам я замечал ни раз, что редко кто может побороть меня или выиграть «на руках». Разве что те, кто намного старше меня, да и то далеко ни каждый. Сила мне досталась от отца. Доброта, видимо, от мамы. Кумиров у меня не было. Покорностью тоже не блистал особо. Что неминуемо и вело меня к одиночеству.