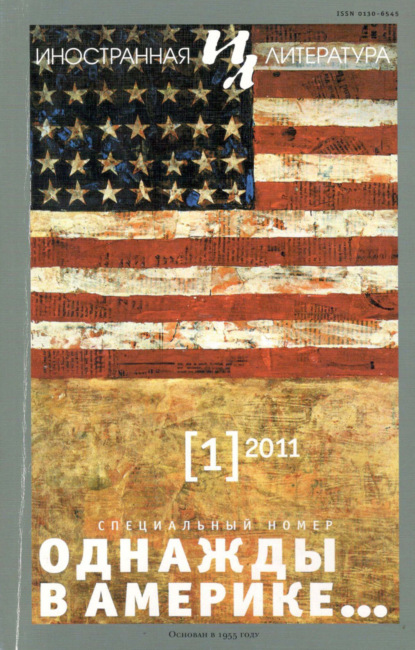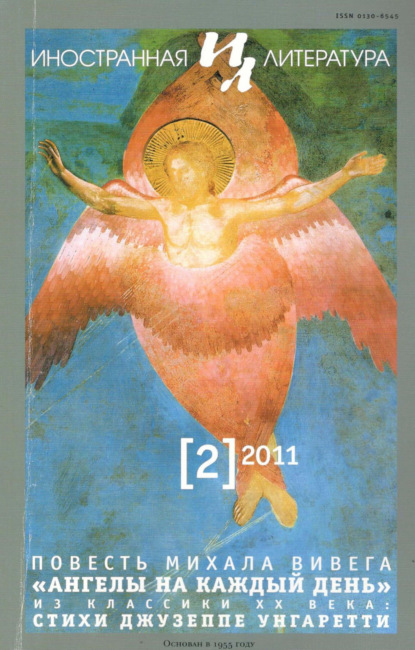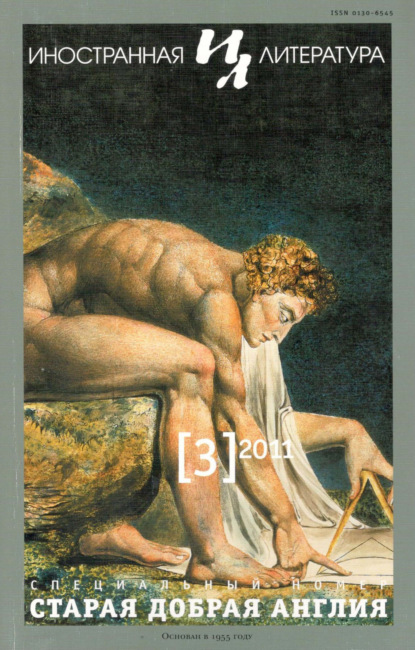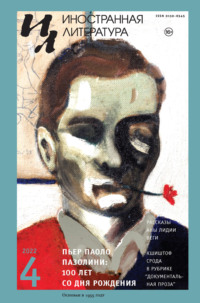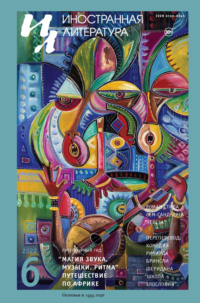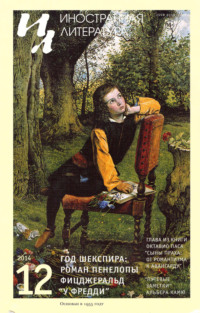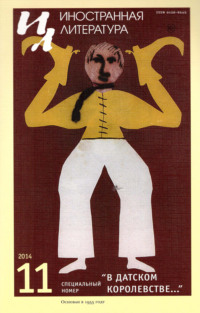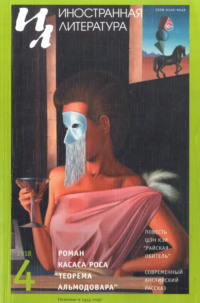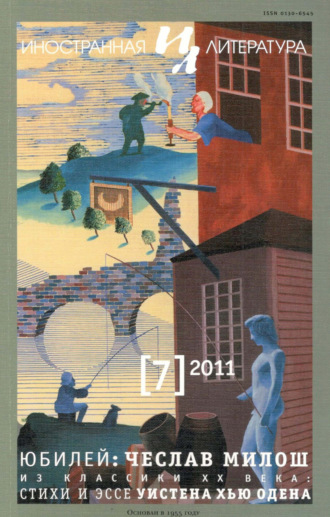
Полная версия
Иностранная литература №07/2011
А ботинок так там и остался. Я смотрю на него каждый день – это все, что ты оставил после себя. Как будто тебя забрали на небо, и ты сбросил с ноги башмак в доказательство того, что действительно был тогда на крыше и вся эта история мне не пригрезилась. Пока мы с тобой были вместе, я каждое утро раздвигала шторы, и видела на крыше твой ботинок, и не могла удержаться от улыбки. Но теперь он как будто сам надо мной смеется. Этот глупый кусок кожи, который я не могу достать, каждый день мозолит мне глаза и твердит с издевкой: ты потеряла его, ты его потеряла.
Кажется, мама обо всем догадалась, она говорит, что нам надо переехать. Но я не хочу, ты же знаешь, я все жду, что ты вернешься, чтобы забрать свой башмак.
Сейчас ночь. Ко мне недавно заходила мама, звала поесть. Я молча покачала головой. Она не настаивала и ушла. Я слышала, как она убрала со стола посуду и отправилась укладывать братика. Теперь стало совсем тихо, а я все сижу и смотрю в окно. Весь дом погрузился в сон, слышно только, как в окне напротив тихонько плачет маленькая девочка: ей, что ни ночь, страшные сны снятся. Вчера ночью она, как и я, смотрела в окно, словно тоже ждала чего-то.
Я прошу тебя, переплыви океан, пересеки сушу, отодвинь рукой весь мир, если он стоит между нами, отодвинь мягко или грубо, не имеет значения, но только, пожалуйста, приди и забери свой башмак. Вернись и забери то, что ты здесь оставил. Я буду сидеть и ждать тебя, мой дорогой, я тебе обещаю. Я готова в любой момент открыть окно. Приходи, умоляю.
4. Объяснение моего исчезновения
IЖизнь мне спасло одно интервью.
Это событие тем более достойно рассказа, что оно многое проясняет из того, что произошло тогда в моей жизни и что, как мне представляется, так и осталось непонятым всеми теми, кто меня знал. Мой рассказ прольет новый свет на те несколько недель, что предшествовали моему исчезновению. Кроме того, все, что я здесь поведаю, является моим первым и последним объяснением.
Это интервью произвело тем более ошеломляющий эффект, что в то время я даже не подозревал, что мою жизнь надо спасать. Более того, все у меня складывалось как нельзя более благополучно. Я достиг, если можно так выразиться, зенита своей карьеры. Как всем известно (или, может быть, как многие помнят), у меня была своя программа на телевидении, в которую я мог приглашать кого считал нужным и одеваться как мне вздумается. Это была литературная передача на пятьдесят восемь минут из разряда “не пропустите”, да что тут рассказывать, кто же не знает эту передачу? И все, разумеется, видели мою беседу с Хемингуэем (или во всяком случае слышали о ней от других): я сделал ее к сорокалетию со дня смерти последнего, и эта передача мгновенно стала лидером литературных программ. Посредством монтажа мне удалось услышать мнение классика касательно опасности генетически модифицированных продуктов и колонизаторского характера первой войны в Заливе и, более того (это было самое удачное место), мне удалось расспросить его о том, что он испытал, выстрелив себе в голову из охотничьего ружья – способ не так давно снова введенный в моду Куртом Кобейном, солистом группы “Nirvana”. Точно так же, как Чарлтон Хестон стал экспертом по римской античности, сыграв в “Бене Гуре”[1], я практически в считаные дни был возведен в ранг литературных критиков, специалистов по прозе XX века. То, что писатель уровня Хемингуэя решил post mortem довериться такому молодому человеку, как я, то, что он выбрал именно меня (который только что перешел из рубрики “Хоккей на льду” в спортивной передаче, транслируемой днем по воскресеньям, в передачу “Как одеваются знаменитые писатели”, выпускаемую в эфир в понедельник утром), оказалось весомей всех университетских дипломов – и тем лучше, потому что как раз дипломов у меня никаких нет.
Но речь не об этом интервью – не оно спасло мне жизнь. Хотя, конечно, существенно ее изменило: после него я смог покупать такие костюмы, которые до этого даже не предполагал, что смогу когда-нибудь себе позволить, я залил в себя столько шампанского, что им можно было бы заполнить трюмы “Титаника”. И еще я купил “вольво” со всеми возможными наворотами.
Разумеется, я был достаточно осмотрителен, чтобы не повторять трюк с посмертным интервью, но с этого момента позволил себе взять несколько менторский тон, то есть добавлять нотку презрения в голос, когда рассуждал, к примеру (с видом знатока, само собой), о частичном провале книги Трака “Побережье Сирта”[2]. В результате меня стали приглашать на всевозможные круглые столы и другие передачи. Моя компетенция расширилась до универсального масштаба.
Отныне меня окружали журналисты. Я сам их отбирал, если мне нравились их взлохмаченные волосы или экстравагантные наряды, а что касается их осведомленности в области литературы, то она не превосходила моей. Каждый из них успел опубликовать какой-нибудь сумбурный и откровенный личный дневник, который никто никогда не читал, а что до книг, о которых они брались писать, то прочли они на своем веку не больше, чем я сам. Что касается отбора литературы для анализа, тут работал принцип мимолетного пристрастия, то есть они выбирали еще более “от фонаря”, чем я сам, и в этом-то и состоял парадокс, потому что не все тут сводилось к случаю, а скорее так: мне надо накатать статью, скажи, что ты сейчас читаешь. Или: у девахи, которая это написала, такой сногсшибательный зад – и все в том же духе. Я нежно любил этих журналюг, порой даже возил их с собой на море, усадив в мою “вольвочку” с откидным верхом. Казалось, чего же еще можно ждать от жизни.
Я подумывал выпустить сборник собственных высказываний о мировой литературе; водил знакомство с Жераром Депардье; упоенно распускал всевозможные слухи по поводу моей ориентации; собирался завести кошку; имел три пары мокасин от Джона Лобба и официально заявил о конце литературы постмодернизма.
Надо, тем не менее, отдать мне должное, я обладал особым даром улавливать дух времени (эпитет этому духу я давал в зависимости от настроения, характеризуя его как “тошнотворный”, “легковесный” или “разрежённый”). Я довольно быстро заметил, что в нашу эпоху, когда отмирают традиционные этико-религиозные ориентиры (это, кстати, название моей статьи: “Отмирание этико-религиозных ориентиров”), у общества возникает потребность в философских вливаниях свежей мысли. Еще мне пришла в голову счастливая мысль приглашать к себе в студию не только писателей и литературных критиков, но и мыслителей, то есть людей, способных сформулировать окончательное суждение о современной эпохе за две с небольшим – три минуты. Приглашенных было множество, так что возникало ощущение, что в рамках телеэфира философская мысль бьет ключом. Конечно, не обошлось без проколов, например, когда Деррида, забывшись, возжелал объяснить, что такое метафизика присутствия, или когда Леви-Стросс, который, по моим представлениям, был достаточно стар и утомлен, чтобы не вдаваться в пространные разъяснения, вдруг изъявил желание поговорить о структурализме. Это были затруднительные моменты, вынудившие меня стать более требовательным в отборе мыслителей нашего времени для эфира. Переориентация не заняла много времени, поскольку мне помогала моя команда критиков-журналистов, которые знали, где найти истинных мыслителей: разумеется, в студиях конкурирующих передач.
Я демонстрировал все большую озабоченность судьбой Запада, употреблял такие выражения, как “нигилизм”, “равенство полов” или “глобальное потепление”.
Как раз в это время была сделана фотография, где я сижу за своим рабочим столом, заваленным книгами (главным образом, это экземпляры, бесплатно присланные издательствами в целях рекламы). Я курю трубку – как раз начал незадолго до этого. Если не ошибаюсь, это моя последняя фотография.
IIА потом было это интервью.
В тот день на мне был безукоризненно строгий костюм, в зубах – трубка из вересковой глины. На вечер у меня была назначена встреча с начинающей журналисткой. От меня веяло дорогими духами.
Я решил, что передача будет посвящена Богу, но этой беседе предстояло быть воплощением хорошего вкуса, без всяких ученых мудрствований и профессиональных разглагольствований. Гость программы идеально подходил для этого. Я знал его лично и имел возможность оценить его философские познания, поскольку мы с ним ужинали в одном ресторане. Он обладал весьма ясными и глубокими мыслями о Боге, его смерти и будущем религии. Как он сам любил повторять на всех телевизионных каналах, он был натурой свободомыслящей и бескомпромиссной, независимой от убийственных религиозных предрассудков и не боялся повторять вслух, вопреки всем опасностям, что он думает о святом апостоле Павле. Кроме всего прочего, он обладал отменным вкусом и не углублялся в философские дебри, в иезуитский лабиринт умозаключений, порождающий иллюзию, будто между философами существуют кардинальные различия, хотя, если присмотреться, можно различить среди них только хороших и плохих: прогрессивных мыслителей и дремучих мракобесов – тех, что желают нам добра, и тех, что у всех сидят в печенках. Как обычно, он кипел от негодования по множеству различных поводов. Только что он выпустил свою очередную книгу.
Обсудив с ним заранее пинг-понг вопросов и ответов, я перестал прислушиваться к тому, что он говорит, и с головой погрузился в размышления, где он покупает себе рубашки. (Недавно в ресторане он признался мне, что эти рубашки обеспечивают ему стопроцентный успех у женщин, и возможность покупать их является главной причиной, почему он занимается философией, а уж на втором месте, разумеется, желание избавить человечество от сковывающих его лживых предрассудков.) И вдруг – как обухом по голове: я услышал голос.
Этот голос сказал мне абсолютно внятно: Какого хрена ты тут делаешь?
Я испытал такой шок, что резко вскочил, и все мои бумажки полетели на пол. Я так стремительно повернулся к моему гостю, что он осекся посреди фразы “пора начать говорить правду, нравится это кому-то…” – и теперь смотрел на меня полными ужаса глазами. Потом я поочередно повернулся к каждому из моих журналистов, которые съежились под моим взглядом.
Наступила пауза.
Она длилась несколько секунд, это было жутко.
Я снова повернулся к моему гостю и, совершенно забыв, что я в прямом эфире, спросил:
– Что ты сейчас сказал?
После минутной заминки, когда он в свою очередь стал искать глазами журналистов, он изобразил улыбку, покашлял и произнес:
– Я говорил, что пора начинать наконец говорить правду, нравится это кому-то…
– Нет-нет. До этого.
Снова пауза.
Журналисты, вконец растерявшись, принялись вертеть головами в разные стороны (все помнят, что передача шла при полном зале и в прямом эфире). Но в этот момент я понял, что прозвучавшая реплика исходила не от моего собеседника и даже не из публики – голос прозвучал совсем с другой стороны. На короткое мгновение меня охватила настоящая паника. Но только на мгновение. Потом я овладел собой. Ладно, забудь, сказал я, давай дальше толкай свой спич.
Сбитый с толку, он с грехом пополам вернулся в русло начатых рассуждений:
– Да, правда может кому-то и не понравиться…
И тут я буквально прозрел: как будто пелена с глаз спала. Все мое существо испытало невероятное потрясение. Я видел, как ресторанный философ шевелит губами, произнося “да, правда может кому-то и не понравиться”, – и вдруг меня как громом поразила абсолютная, непоколебимая, прямо-таки космическая уверенность, что этот тип – законченная скотина, самый что ни на есть распоследний и беспардонный самозванец, какого только производила эра пустоты, выскочка, бахвал и прощелыга, одержимый манией величия и возглавляющий когорту ему подобных самодовольных хлыщей, которым я и другие мои собратья в течение долгих месяцев предоставляли стол, кров и всяческие почести. И под воздействием этого сногсшибательного откровения я, как мне показалось, во всеуслышанье заявил (до сих пор не знаю, произнес ли я это на самом деле):
– Да, какого хрена я тут делаю?
Конец передачи был похож на страшный сон.
IIIКто же это был, за кем я повторил слово в слово ту революционную фразу? Из студии я вышел в сомнамбулическом состоянии, абсолютно глухой к тому, что творилось вокруг меня, даже не сказав “до свидания” философу, коего отныне я буду называть не иначе как Скотиной. Домой я вернулся сам не свой, намертво забыв о встрече с начинающей журналисткой, и на ужин проглотил какую-то банку сардин – это стало отправным моментом моего аскетического преображения.
Сначала я полагал, что этот таинственный голос принадлежит Эрнесту Хемингуэю. Мне казалось, я даже узнаю его легкий американский акцент. Но от этой гипотезы пришлось отказаться: как Хемингуэй мог предъявить мне такой упрек (потому что фраза прозвучала именно как упрек), ведь он стольким был мне обязан (и я ему тоже)?
Вне всякого сомнения, это было предупреждение, что-то среднее между голосом Командора и падением с лошади святого Павла[3]. Эта лаконичная фраза поставила под сомнение и перевернула с ног на голову весь мой образ жизни, в ней содержалось указание на необходимость пересмотреть всю мою систему ценностей. Тогда я подумал о Боге.
Разумеется, тот факт, что Он обращался ко мне в передаче, Ему посвященной, только подтверждало мои предположения. Впрочем, ледяная пустота, разверзшаяся во мне после этих слов, тоже подтверждала догадку, потому что в этих словах отразилась вся вопиющая бесцельность моего существования. Жуя на ужин сардины, я спрашивал себя: ты ищешь Бога? То, что ты испытываешь, может быть, это тоска по Богу?
Ответ родился во мне мгновенно, и он был вполне определенным: нет. Тогда я пошел спать. Как ни странно, спал я вполне спокойно.
В последующие дни я осознал, что задавать себе вопрос о том, кто сказал эти слова, было делом абсолютно бессмысленным. Главное было понять, что же мне теперь предпринять. Первая моя реакция облеклась как-то сразу в форму отрицания, очень действенную: неделю спустя я продал “вольво” с откидным верхом. Это была моя первая победа и первый знак духовного преображения, которое можно сравнить разве что с обращением Игнатия де Лойолы[4] (его я прочел несколько позже, в тот период, когда полагал, что моим призванием является религиозная стезя). Что касается моего ухода с телевидения, то весть о нем долго (целый месяц), можно сказать, будоражила культурную жизнь Франции (а также Бельгии, где у меня было много телезрителей). Должен признаться, что я довольно удачно устроил финансовую сторону дела: мое обращение не лишило меня окончательно рассудка. Меня заменили одним журналистом из моей команды, конечно же, самым плохим, который позже, уже вне телевидения, прославился тем, что написал сценарий к мюзиклу “В поисках утраченного времени”. Итак, я ушел, получив солидный гонорар, которого вполне хватало, чтобы потихоньку готовиться к аскезе. Впоследствии, как всем известно, я продал квартиру и поселился под чужим именем в очень скромном квартале неподалеку от Северного вокзала. Именно в этом жилище я и пишу сейчас эти строки.
Итак, я окончательно встал на путь обращения, вот только не знал к чему. Как я уже сказал, мне приходила в голову мысль о моем религиозном призвании. Несмотря на посещавшие меня сомнения (и на тот факт, например, что я не верил в Бога, но с этим еще можно примириться), какое-то время я думал развиваться в этой сфере. И вот тут как раз мне было второе откровение.
Как я уже сказал, жизнь я вел все более уединенную и строгую и большую часть времени проводил взаперти. Более того, я принялся читать. И если бы я не отошел окончательно от мира, то всеми силами ратовал бы за чтение во всех публичных местах: вы даже представить себе не можете, насколько это увлекательно. Это было настоящее открытие. Я прочел два романа Хемингуэя, от корки до корки. Тем самым я отдал должное тому, кто так решительно повлиял на мою карьеру почти в тот самый момент, когда я отвернулся от него, влекомый другим голосом. Куда же податься теперь? Я продал машину, но этого мало. Я переселился в убогий квартал, но и этого мало.
Поскольку я одновременно испытывал двоякую потребность – в чтении и в духовной пище, которую не знал как определить, я взялся за чтение Игнатия Лойолы и Хуана де ла Круса.
Провал. Но этот провал умерил на какое-то время мою неофитскую страсть к книгам. И тем не менее, именно во время скучного чтения я прозрел во второй раз. Я снова услышал голос.
Я сидел в старом кресле лицом к окну, за которым громоздились крыши, и держал в руках книгу “Темная ночь”, как вдруг услышал:
– Искать надо не здесь.
Я прекрасно понял смысл фразы. И тогда с торжественностью, которую я лично счел как нельзя более подходящей к ситуации, вышвырнул в окно Хуана де ла Круса. С моим религиозным призванием было покончено.
В этот раз, несмотря на прежнюю лаконичность приказа и на его запретительный характер (в первый раз это тоже было критическое замечание, подразумевавшее, что я не должен находиться там, где нахожусь), я довольно быстро понял, что от меня требуется. Я вспомнил, что в первый раз голос прозвучал во время интервью с шутом, претендовавшим на звание философа. Теперь он требовал от меня отойти от религии. Значит, моим призванием – я в этом уже не сомневался – была именно философия.
Все было предельно ясно. Я подошел к окну и глубоко вздохнул. Итак, значит, философия. В эту минуту я почувствовал себя очень одиноким, и даже думаю, не было ли у меня внутреннего малодушного порыва отступиться, когда я понял, что ждет меня впереди, – впрочем, так всегда бывает, когда становятся философами.
Именно к этому моменту относится, как известно, мой последний телефонный звонок: я позвонил отцу. Я знаю, что он рассказал об этом, потому что об этом говорили по телевидению, когда обсуждали мое таинственное исчезновение, – впрочем, как мне кажется, это был последний раз, когда обо мне вспомнили. Мой отец, который не знает, куда себя деть с тех пор, как от него ушла моя мама, ни разу не упустил возможности что-нибудь обо мне рассказать (будь то прошлое или настоящее), и даже тот факт, что во время нашего последнего разговора он обещал мне молчать, не слишком его смутил. Но я-то знал наверняка, что он ни за что не сдержит слова, так что не стал ему говорить, где я теперь живу и под каким именем. По правде, я вообще воздержался от каких бы то ни было объяснений и какой бы то ни было информации на мой счет, сказал только, что у меня все в порядке, чтобы он не волновался (впрочем, ему и так на все наплевать, единственное, что его занимает сейчас, это вернется мама или нет, он с этого и начал – “ты знаешь, она не вернулась”, – не успев даже спросить, как мои дела и куда я, господи боже, запропастился, или даже просто выразить радость по поводу того, что он меня слышит). И еще я сказал, что не собираюсь возвращаться на телевидение.
Сам не знаю, зачем я сделал этот телефонный звонок – наверно, чтобы услышать в последний раз голос из моей предыдущей жизни, чтобы обрубить последнюю нить, связующую меня с миром. Это был последний знак, который я посылал сообществу людей, к которому когда-то принадлежал. Я произнес вежливое “до свидания, папа”, как будто уезжал в летний лагерь. Но я твердо знал в этот миг, что уже не принадлежу к их числу и что даже немногочисленное общество моих теперешних соседей слишком для меня велико – ведь занятие философией требует полного и необратимого одиночества.
Начиная с этого момента моя жизнь целиком и полностью слилась с философией, то бишь с книгами. Поэтому в моем последнем объяснении, которое я посылаю в мир, я ограничусь списком книг, хотя и неполным, в которых теперь сосредоточена вся моя жизнь. Я купил их перед тем, как запереться и исчезнуть, в следующем порядке:
IVМонтень “Эссе”. В состоянии полного одиночества, ставшего для меня привычным, прекратив всякие сношения с внешним миром, я начал вести беседы, и первый, кто со мной заговорил, был Монтень – он говорит со мной и по сей день и остается единственным человеком, с кем я общаюсь. Он поведал мне о множестве противоречивых вещей. Во время одной из таких свободных бесед (они проходили у нас три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам) я сделал открытие, что однажды умру – мысль, которая более чем за сорок лет моего существования не посетила меня ни разу. Открытие это, разумеется, было не из приятных, но в конце концов я понял, что “четверть часа агонии не требуют никаких особых приготовлений”[5].
Я сказал в начале, что жизнь моя была спасена. Должен уточнить, что она была спасена постольку, поскольку отмечена печатью неизбежности и неминуемой кончины. И сразу же, конечно, моя предыдущая жизнь показалась мне довольно-таки ничтожной. Я начал жалеть себя, потому что в то время был подвержен самому ужасному из всех страхов, но в силу незнания не мог этот страх назвать. Зато в состоянии назвать теперь. Смысла в окружающем мире не прибавилось, но теперь я, по крайней мере, знаю, что жизнь не имеет смысла.
Под воздействием Монтеня я также перекрасил потолок в квартире.
Кант “Критика чистого разума”. Избрав путь философа, я познал и взлеты, и падения. Кант дался мне непросто. Должен признаться: возможность синтетического суждения a priori никогда прежде меня не волновала.
Само собой, когда я открыл для себя, что время и пространство не являются вещами в себе, но относятся к нашей перцептивной способности, у меня началось пренеприятное головокружение: в этот период мне стало трудно перемещаться по квартире, потому что предметы двигались одновременно со мной, – но, возможно, этому способствовал также мой режим питания.
Тем не менее я продолжал чтение Канта (я не все в нем понял) до тех пор, пока не узнал, в частности, что невозможно ни доказать существование Бога, ни его опровергнуть. Эта перспектива (что придется смириться с полной неопределенностью) привела к тому, что я утратил всякую надежду на будущую жизнь – что само по себе не так уж плохо: меньше думать надо.
В ознаменование чтения Канта, которое превратилось для меня в подлинное испытание, я назову мое обращение коперниковской революцией, потому что, как мне кажется, именно к этому я пришел, сам того не сознавая. Действительно, в определенном смысле, в моей предыдущей жизни все как-то очень усложнилось: перемещения людей вокруг меня, круговорот денег, рост моей известности – все труднее становилось соединять одно с другим, как-то это все подсчитывать и упорядочивать. Все вокруг меня неслось и кружилось. Все усложнилось и запуталось, потому что положение мое мешало мне все это оценить, соответственно, надо было, чтобы я в корне поменял точку зрения, а это и была революция. Начиная с этого момента вращения и перемещения (на них, впрочем, я стал взирать отстраненно) объяснять стало легче. Когда вышеупомянутый переворот во мне свершился (так Коперник поместил в центр мироздания Солнце, а не Землю), все эти сверхсложные круговороты (вещей, людей, слов, стремлений, обид, денег) упорядочились в регулярные и гармоничные циклы – но их движение происходило теперь бесконечно далеко от меня. Мир стал прост – но крайне, крайне далек.
Платон “Федр”. Я начал разговаривать сам с собой, но это меня ни мало не беспокоило. Я вел дискуссии с целым сонмом собеседников, которых я находил на каждой странице, хотя все они вроде бы отвечали на вопросы, которых я не задавал. Короче, я сделал капитальное открытие, положившее конец моим размышлениям о том, кому принадлежал голос, обращавшийся ко мне дважды. Это было как вспышка, как озарение: голос принадлежал демону Сократа.
Двадцать пять веков прошло, и он снова дал о себе знать. И выбрал для этого меня. То, что говорит по этому поводу в “Федре” сам Сократ, является тому неопровержимым доказательством. К примеру, он говорит, что этот гений, направляющий и вдохновляющий мысль, может проявить себя только через отрицание, то есть он может лишь запретить или указать, чего делать не надо, – а голос, дважды обратившийся ко мне, вел себя именно таким образом. Кроме того, как все помнят, я сразу заметил, что говорил он с иностранным акцентом: а именно с греческим. Любая другая гипотеза, в частности примитивнопсихологическая, намекающая на то, что слышал я свой собственный внутренний голос, смешна и заведомо ошибочна. Но поскольку такой упрощенный способ интерпретации является наиболее распространенным, я хочу в последний раз подчеркнуть: я не разговаривал сам с собой, со мной говорил демон Сократа собственной персоной. Тот факт, что я немедленно ударился в философию, лишний раз доказывает это. Не вижу в этом никакого бреда: сколько на земле существует людей, регулярно заявляющих, что двадцать веков спустя после смерти и воскресения Иисус Христос вернулся на землю, – и я имею в виду не только Достоевского. Я внятно изложил эти свои доводы во время одной из моих последних и немногочисленных бесед с человеческими существами. В данном случае я имею в виду моего соседа по лестничной клетке, возвращавшегося домой вместе со своим псом Флопом в тот момент, когда я ставил два дополнительных замка на входную дверь (причину моих действий я объясню ниже). И тот факт, что сосед полностью меня поддержал (молча: он ограничился тем, что посмотрел на меня, но я сразу понял, что он меня поддерживает), и то, что я смог вразумительно объяснить ему, что к чему, доказывает совершенную обоснованность моих доводов.