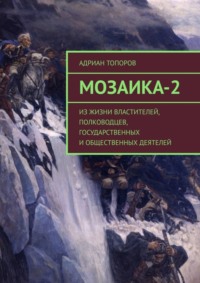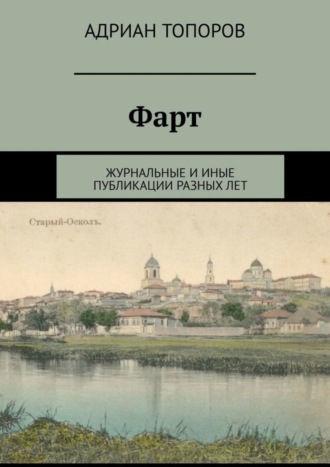
Полная версия
Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет
«Vivu Esperanto! Изучайте международный вспомогательный язык эсперанто, самый легкий язык мира, дружбы и братства народов!»
– Кто это налепил?
– Батюшка, Иннокентий Серышев.
Школа моя считалась министерской, но уроки закона божьего были обязательны. Явился поп на первый урок и отрекомендовался:
– Священник Иннокентий Серышев.

Серышев И. Н., эсперантист, литератор, религиозный деятель. (ГАНО. Ф. Р-2852. Оп. 4. Д. 291. Л. 1.)
Передо мною стоял высокий стройный человек лет тридцати трех с тонким, одухотворенным лицом и умными светлыми глазами. Был он коротко подстрижен, на шее – воротник из голландского полотна, на шелковой рясе – хризолитовая звездочка, на ней – все те же буквы: «Еsperanto!». Я таких попов сроду не встречал. Окончив урок, он пригласил:
– Заходите вечерком… Потолкуем.
Дом его стоял позади церкви, был просторен и чист. Проходя, я заметил кладовые, амбары и, главное, баню по-белому. В гостиной возликовал: увидел пианино. Жил священник с женой и тещей. Детей не было. Жена нисколько не походила на дебелую сельскую попадью. Веселая, молодая, шутница, хохотунья, певунья и танцовщица. Отец Иннокентий называл ее Катюшей, она его – Кешей.
Разговорились легко, и я узнал, что поп окончил в юности реальное училище, потом – Томский политехнический институт. Образован был прекрасно, владел пятью или шестью языками, играл на фортепьяно, пел, запоем читал. Мне и до сих пор непонятно, с чего этот умнейший политехник перекинулся вдруг в попы.
Обширный его дом показался мне своеобразным музеем. На полках, в этажерках, шкафах лежали у него археологические, ботанические, энтомологические, минералогические коллекции. Библиотеку он тоже собрал богатейшую – энциклопедии, словари, справочники, сотни научных, философских, художественных книг. И не увидел я ни молитвенников, ни «житий», ни религиозно-нравственных поучений. Зато отец Иннокентий показал мне роскошные альбомы с цветными иллюстрациями, изображавшими природу, одежды, быт едва ли не всех стран земного шара, и пояснил:
– Все это – дары эсперантистов.
– Держитесь! – засмеялась попадья Катюша. – Теперь он сядет на своего конька.
Действительно, тут же мне пришлось выслушать лекцию о международном языке, о том, что благодаря эсперанто народы наконец-то поймут друг друга, а значит, кончатся раздоры и наступят мир, братство, всеобщее благоденствие. Увы, если бы дело было только в языке! Но тогда странный священник увлек меня, последним доводом была фундаментально изданная книга «Siberio» («Сибирь»), на титульном листе которой значилось имя автора: Inocento Serisev (Иннокентий Серышев). «Вот тебе и поп!» – подумал я.
Хорошо помню первую зиму в Верх-Жилинском. Я изучал эсперанто, довольно быстро осилил и мог, сидя в захолустном селе, переписываться с людьми, живущими на всей планете. Был даже принят в члены международной ассоциации эсперантистов, центр которой находился в Женеве.
Батюшка же, как понял я, очень много работал, писал статьи в петербургский журнал «Трезвые всходы», издавал брошюры против пьянства, книги о кооперации, об изучении эсперанто – словом, был это труженик, трезвенник, одареннейший человек. И я нисколько не удивился, когда позже, сразу после Февральской революции, он сбросил рясу и начал работать секретарем Алтайского культурно-просветительного союза. Союз этот издавал учебники, книги и журнал «Сибирский рассвет», привлекший таких писателей, как Павел Низовой и А. С. Новиков-Прибой. Уезжая в Барнаул, Серышев сделал крестьянам драгоценный подарок – передал школе большую часть своей библиотеки, о которой мне еще придется говорить.
Дальнейшая его судьба сложилась странно. Началась гражданская война, надвинулась колчаковщина, а он, судя по всему, мало что понял. Во всяком случае, в самое неподходящее время отправился в Японию за бумагой для культурно-просветительного союза. Ехал один, без жены, не думал, значит, оставаться, вышло так, что больше на родину не вернулся. От эсперантистов разных стран, с которыми я по-прежнему вел переписку, время от времени узнавал о трудах этого человека, всегда неожиданных.
На эсперанто он выпустил, например, книгу «Страна самураев» – о своих скитаниях по Японии, а заодно о системе образования в этой стране. На английском, который тоже знал в совершенстве, издал капитальный альбом о деятелях русской культуры. Наряду с биографиями Сеченова, Мечникова, Павлова, Кони, Плевако, Сикорского, включил в него жизнеописания княгини Ольги, епископа Тихона Задонского, святого Сергия и т. п. Многие сочинения И. Н. Серышева хранятся, как я узнал, в Ленинской библиотеке в Москве.
Самого же его больше не видел, следы потерял, думал, что давно его и на свете нет. Как вдруг, впрочем, не вдруг, а все после полета Германа Титова получил авиаписьмо на языке эсперанто из Сиднея. От кого же? От Иннокентия Серышева! Сообщил мне, что только в Австралии соединился с женой, но потом скончалась Катюша, он один доживал свой век, родину помнил и меня не забыл.
Мы переписывались с ним до самой его смерти. У Иннокентия Николаевича была давняя привычка нумеровать все письма своим корреспондентам. Последнее письмо ко мне он пометил номером 11217. В нем писал, между прочим, что в Русском институте Колумбийского университета лежит его автобиография в пяти томах… Чего там только нет! Он ведь объездил всю Европу, всю Азию, говорил речи в лондонском Гайд-парке, был рикшей в Пекине, уличным торговцем в Токио, обошел с посохом всю Австралию. Писал, что, конечно же, много сказано у него о любимой Сибири, есть в рукописи глава и обо мне.
О судьбы русские! Но не поразительны ли трудолюбие, жизнестойкость этого человека? Горько сознавать, что они потеряны для большой науки…
8
Февраль прошумел отдаленной грозой. Октябрь перевернул мир.
В мою задачу не входит дать описание грандиозных событий, хочу остаться на своей почве, говорить о малой частице огромной страны – о селе Верх-Жилинском, о крестьянах и их детях, о том, как они потянулись к культуре, знаниям и о том, как по мере сил я старался им помогать.
Революция отозвалась для меня прежде всего тем, что мужики без уговоров достроили школьный сарай – настелили добрую крышу, сделали крылечко, сени, оборудовали небольшую дощатую сцену. Вечерами вместо «сборни» все чаще начали сходиться в школе, она стала своеобразным клубом, как и большинство сельских школ той поры. Книги из школьной библиотеки все время были в ходу, не берег я и своих книг.
Все больше слушателей собиралось на громкие читки, а зимой решился я ставить пьесы. Выбирал, конечно, одноактные, преимущественно комические или остродраматические. Участвовали старшие школьники, молодежь, потом сыскались любители постарше, так что мочальные бороды клеить уже не требовалось. Первой, вспоминаю, шла у нас инсценировка «Хирургии» Чехова, даже и не инсценировка, а чтение «по голосам». Успех превзошел все ожидания, смех был такой, что заглушал реплики, приходилось повторять их по два, по три раза. И опять хохот. Артисты наши воспрянули, дело пошло веселее, каждый праздник мы давали новые спектакли. Опять же Чехова – «Злоумышленник», «Беззаконие», «Унтер Пришибеев», Глеба Успенского – «Зимний вечер» и «Байбаки» Бунина, «В деревенской тиши» Салтыкова-Щедрина, «От нее все качества» Л. Н. Толстого, «Белая ворона» Чирикова, «Ветеран и новобранец» Писемского…
Учил по-прежнему детей, учил взрослых, с утра до ночи крутился в школе, затевая новые дела. Но не ищите тут одной заслуги учителя: таково было время, и надо было за ним поспевать. Никогда еще до этого, да, пожалуй, и после этого, я не видел в деревне такого всеобщего стремления докопаться до сути явлений, такой тяги людей к разговорам, спорам, общению.
Наступил 1918 год.
К тому времени был я уже не один. Жена моя Мария Игнатьевна на долгие годы стала мне верным помощником и другом, и приходилось ей за «беспокойным» мужем трудненько. В Сибири, как известно, образовалось многовластие, началась смута, потом силу взяла колчаковщина. Пошел гулять по селам страшный лозунг: «Власть на местах!» опираясь на него, кулаки терроризировали ревкомовцев, культпросветчиков.
В начале 1919 года колчаковщина у нас свирепствовала вовсю. Мне угрожала опасность, я скрылся в Бийске у Ешиных: они переехали туда из Барнаула. Снова пожил со старыми друзьями. Осенью узнал, что партизанское движение в Косихинском и смежных районах развернулось широко. И в стороне не остался. Тайно вернулся в Верх-Жилинское, перешел на подпольное положение…
Уроков в школе не вел: время было смутное, мужики растащили на курево всю серышевскую библиотеку. Объяснение было такое, что это, мол, религиозный дурман. Я возмутился, потребовал у партизанских командиров приказа об изъятии книг. Вместе с учениками облазил чердаки и подполья. Библиотеку спасли. Курильщикам взамен книг отдал все старые газеты.
До полной ликвидации колчаковщины работал секретарем Верх-Жилинского ревкома. Между прочим, вел дневник о крестьянских настроениях, о набегах колчаковских банд. В 1920 году передал свои записи А. С. Новикову-Прибою по его просьбе. Дневник был им использован, но, к сожалению, ко мне не вернулся. Впоследствии вдова писателя Мария Людвиговна сообщила мне, что эти тетрадки пропали в годы гражданской войны.
После разгрома колчаковщины передовые люди села, бывшие партизаны вечерами засиживались у меня в школе, думали думу о новом житье-бытье. Все понимали, что жить по-старому нельзя, что пришла пора строить новый мир. Иначе для чего же совершалась революция?
Решили организовать коммуну.
На сельском сходе два десятка семей подали заявление, чтобы им выделили земельные угодья. И грянул бой! Первым выскочил один из «крепких хозяев» Егор Камакин. Трясясь от злобы, пошаркал бахилами от задней лавки к столу председателя, сорвал с головы собачий треух и рявкнул:
– Нет! Не дадим согласу на выдел откольникам!
Завизжал похожий на скопца Никита Голеузов:
– Наша воля! Не может коммуния устоять против опчества!
Шумели и другие:
– Где такие права, чтоб с миром идти на раздерягу?
– Не дадим землю на отруб, и все тута!
– С опчеством не спорь! На мир и суда нет!
К согласию не пришли.
Я помог коммунарам сочинить заявление в губземотдел, что тоже было в те годы обычным занятием учителей. Наши ходоки отправились в Барнаул. Вскоре оттуда прибыл землемер и объявил «опчеству», что властями предписано выделить угодья новой коммуне. Выслушан он был в угрюмой тишине и приступил к размежеванию.
20 марта 1920 года стало днем рождения коммуны «Майское утро».
Название придумала Прасковья Ивановна Зайцева, одна из коммунарок, поэтическая душа. Пришли на облюбованное место, остановились на увале, покрытом вековыми соснами и березами, увидели сверху речку, Журавлиную согру. Тут и решили ставить поселок коммуны.
– Мужики! – сказала Зайцева. – Нехай она прозывается «Майское утро» за ее баскую местность. Ажно дух радуется!

Вид окрестностей с. Верх-Жилинское и коммуны «Майсое утро», рис. Топорова Г. А., сына Топорова А. М. (личный архив Топорова И. Г.)
На том и сошлись.
Жизнь, однако, была поначалу тяжела. В 1920—1921 годах разруха и голод душили страну. Многие верх-жилинцы сидели на мякине, а у кого хозяйство было покрепче, те в коммуну не пошли. Да и сами коммунары строго вели отбор, зорко присматривались друг к другу, оценивали не только политические настроения, но и моральные качества людей. Во время процедуры приема задавались такие вопросы:
– От чистого ли сердца вступаешь в коммуну?
– Будешь ли честно трудиться?
– Не станешь ли противиться культурным начинаниям?
– Согласен ли добровольно выполнять устав коммуны?
Как только солнышко согнала последний снег, коммунары начали валить лес на увале, поставили на пнях первые амбары и временные хозяйственные дворы. Постепенно разбирали свои хаты в селе, чтобы перевезти на новое место. Но с этим не спешили. Подходил весенний сев, и перед «майскими» вставали десятки сложных вопросов. А свести их можно, пожалуй, к одному, самому простому: «Как выжить?»
Сеять решили просо. Добыли с превеликим трудом семена, а расчет был такой, что плодородная целина на поскотине прокормит, даст достаточный урожай. Но прежде надо было поднять эту целину – без нынешних тракторов, со считанными, истощенными лошадьми, – коммунары трудились от зари до зари. И уродилось просо на славу. Когда по дороге проезжал верховой, еле маячила над посевами его голова. Стебель каждого растения у корня тоньше детского пальчика, кисти же висели не метелками, а увесистыми кулаками. Зерно чуть меньше конопляного. Я отродясь не видел такого проса. Намолотили его коммунары полный амбар.
Тяжелейшее было время, а ничем не замутненное, чистое, светлое. Трудности были вовне, внутри коммуны царило согласие. Никто не вешал замков на амбары и кладовые, никто не требовал контроля за работой других. Всяк трудился по совести и во всю мочь. В коллективном труде закалялись единая воля и душевная спайка, которые оберегали организацию даже в самую тяжкую пору бандитизма.
Бандитов было множество, они таились в сограх и лесах, их подкармливали кулаки, в подметных письмах они грозили: «Вырежем коммунию, коли не разойдетесь!»
Как-то это не пугало людей: не только не разошлись, но, напротив, сплотились.
Вот обычная картина. Июньский день, люди трудятся дружно: одни рубят избу, другие везут бревна из леса, третьи обжигают кирпич, и вдруг выстрел, истошный крик дозорного: «Бандиты!» Тотчас женщины и дети врассыпную, мужчины с ружьями залегают в назначенном месте. (Одно время к нам прислан был небольшой красноармейский отряд, а больше сами несли охрану.) Жуткая тишина, проходит пять-десять минут, потом либо жди перестрелки, либо окажется, что это ложная тревога, и тогда со смехом, шутками коммунары продолжают работу.
Даже читки, беседы просили меня проводить не в помещении, а в лесу, – спокойнее. Сидим, просвещаемся, но хряпнет сучок, гукнет наземь сосновая шишка, и все невольно пригибают головы. Сумрачно, страшно… Но оцените и такой факт: первым капитальным домом в два этажа, построенным под ножами и дулами бандитов, была в «Майском утре» новая школа.
К началу 1921 года большая часть коммунаров уже перебралась в поселок. Пример дружной жизни и ладного труда у всех был перед глазами, потянулась за «майскими» молодежь, задумались старики. Но не успело еще молодое деревцо коммун запустить глубоко корни, как на него налетел шквал – чумышское кулацко-бандитское восстание. Оно погубило сотни прекрасных людей, сожгло десятки новых построек, уничтожило многие коммуны в Чумышском и Сорокинском районах. Шквал приближался и к «Майскому утру», однако отряды Красной Армии ликвидировали его. И тогда уцелевшие коммуны Заобской округи вступили во второй этап своей истории, который можно назвать их лихолетьем.
Дело в том, что волна кулацкого восстания захлестнула и обманутых середняков, бедняков, батраков. Боясь расплаты, они скопом подались в коммуны. На беду, местные власти, вместо того чтобы разобраться с людьми, обрадовались такой «активности». Начался сплошной кавардак.
У нас дошло до того, что не согласных записаться в коммуну выселили из Верх-Жилинского. Даже тех, кто вовсе был непричастен к мятежу. Этот неслыханный произвол учинил тогдашний диктатор села Васька Яргин, безграмотный мужик, ходивший с самодельной шашкой, украшенной красным бантом. Я было сунулся с возражениями, но он даже спорить не стал:
– Пшел! И ты захотел туда же?!
Ранним утром начался исход «несогласных». Взвалив на телеги домашний скарб, привязав скот к оглоблям, угрюмо шагали бородачи, голосили бабы, плакали малые дети. Тревожно ревели коровы, ржали лошади. Гарцуя вдоль обоза на лихом коне, Яргин покрикивал:
– Пшел! Будя выть! Айда к поскотине!
Ночью в опустевшем селе слышался вой осиротевших собак. Добравшись до Оби, выселенцы послали делегацию в Барнаул. Дней через пять привезли из губземотдела бумагу, в которой говорилось, что «по учению Владимира Ильича Ленина вступление в коммуны добровольное, а Яргин подлежит ответственности за дискредитацию Советской Власти». И его самого убрали из Верх-Жилинского, отдали под суд.
Однако сделанного не воротишь. Днями и ночами заседали в коммунах комиссии, рассматривая сотни заявлений о приеме. Теперь уже мужики сами подавали их, но от чистого ли сердца, вполне ли по доброй воле, никто не спрашивал. Повсюду стали возникать новые коммуны, нередко липовые, сшитые на живую нитку, и к руководству в них пробрались случайные люди. Спешили согнать на общий двор коров, овец, свиней, кур, свозили сохи, бороны, плуги, телеги, сани и прочее имущество. А помещений не было, не хватало ни кормов, ни пригонов, ни закут. Жизнь стала взбаламученным морем.
Извне коммуне уже ничто не угрожало, но изнутри раздирало ее. Каждый боялся сделать больше других. Пошлют мужика на пахоту, а он огрехи оставляет чуть ли не в сажень шириной. Дадут бабе огуречные семена, а она, чтобы отделаться поскорей, загонит их в десяток лунок – и домой. Назначат какую-нибудь тетку Федору печь хлебы, так она назло такие завернет, что не прожуешь. Даже у честных тружеников опускались руки, а уж те, кто метил «на вылет», орудовали всё откровеннее.
И дождались: начался развал хозяйств, совпавший с введением нэпа. В самый разгар сева кинулись врассыпную «коммунары поневоле». Завязалась великая тяжба при разделе имущества.
Коммун уцелело после лихолетья немного. Самоочищение «Майского утра» от чужеродных элементов было мучительным. Долго еще кулаки и их присные вредили хозяйству, губили посевы, похищали скот, трижды поджигали амбары, избы, бани, нападали на активистов. Так ночью пробрались в хату Егора Блинова, первого нашего тракториста, и выстрелили в него в упор. Чудом он остался жив, но был искалечен на всю жизнь… Однако первые коммунары стойко пережили все тяготы «прилива» и «отлива». Сумели сохранить все основное ядро и даже обросли сторонниками – немногими, но истинными. Коммуна устояла, и начался третий этап ее истории. Лишенный наивных фантазий и прекраснодушных представлений, был он деловым, трезвым, прочным.
Об этом я еще напишу, а пока замечу, что все годы был вместе с передовыми людьми села. Именно так я понимал свою задачу учителя. Выступал на сходах, воевал с тайными и явными врагами коммуны спорил и с излишне ретивыми радетелями ее. Стал в ту пору селькором, печатал статьи и заметки в газетах. Не прерывал читок, вел занятия со взрослыми, учил, само собой, и детей. В первый же год коммунары сказали мне:
– Ты, Митрофаныч, подбивал нас на коммуну, так иди же к нам работать. Без культуры коммуне не жить. Нам нужна школа, нужны наука, театр, хор, оркестр, курсы, лекции. Учи и весели нас!
Да, так они и говорили: «весели нас». И это «весели» понимали не как пустое развлекательное времяпрепровождение, а как способ бытия, как средство укрепления трудового энтузиазма, как мощное оружие борьбы за новую, настоящую жизнь.
9
Человек, не любящий свою профессию, всякому делу обуза. Плох он и на заводе, и в поле, и в научной лаборатории, но хуже нет, коли окажется в школе. Педагог, не любящий детей, – нелепость. А ведь приходилось мне за долгую жизнь видывать и таких.
Однако больше встречал энтузиастов, подвижников. Неравнодушие – нерв педагогики. Щедрость – первая черта учителя. Он без оглядки отдает ученикам свои способности, умение, все свое время, всю свою душу.
Конечно, чего-то он и сам не знает, а всего и не может узнать. Образование учителя тоже не безгранично. Но самоотдача его не имеет границ. Так, во всяком случае, должно быть…
Оглядываясь назад, вижу, сколь мало я поначалу знал и умел. И ошибок сотворил на первых порах, надо полагать, предостаточно. Но, как бы то ни было, учить детей в школе «Майского утра» пришлось мне одному. Других учителей не было. Долгие годы вел занятия со всеми четырьмя классами. Потом с пятью, шестью. Ребятам, окончившим первую ступень и желавшим учиться дальше, деваться было некуда. Волей-неволей я тянул учеников дальше: жалко бросать их! Занимался в две смены – по два-три класса в каждой. Такая быль не считалась в диковинку.
Коммунары помогали всем, чем могли: «На жмыхе будем сидеть, а школу обиходим!» Как ни бедны были, а в первый же год купили для детей учебники, бумагу, чернила, карандаши. Даже краски для рисования сумели добыть (они делались тогда в Барнауле из цветных глин). В самую тяжелую пору завозили нам дрова для печей, керосин для ламп, регулярно пополняли школьную библиотеку, заказывали костюмы и декорации для нашего театра, оплачивали все экскурсии школьников.
Сегодня это может показаться удивительным, но уже летом 1920 года, как только в Сибири установилась Советская власть, у нас были проведены межрайонные учительские курсы. Народное образование стало одной из первых забот голодной, разоренной страны. Около пятисот сельских учителей съехались в село Тальменка Барнаульского уезда, занятия продолжались три месяца. Я это очень хорошо помню, потому что меня избрали председателем курсов. Сидели в нетопленных помещениях, ели впроголодь, одеты были кто во что горазд, а рассуждали о школе будущего, о подлинной массовой культуре. И, может быть, впервые задумались над тем, как дать настоящее образование не кучке избранных, а всем детям страны…
Однажды я читал в классе хрестоматийный рассказ о том, как гроза застала детей в лесу. Ребята слушали со вниманием, все было им близко, а потом многие подняли руки. Оказалось, не поняли слово «оскрётки». Возможно, кто-нибудь решит, что беды тут нет. Не знают, и ладно. Проживут и без оскреток. Будут «проще» говорить: мелкие частицы какого-либо вещества. А рассказ-то был Льва Николаевича Толстого. Этак мы и его разучимся понимать, растеряем все богатства родной речи!
Я никогда не ленился поправлять учеников, объяснять им значение слов, да и весь класс призывал подмечать лексические и грамматические ошибки: «Что неправильно? Кто скажет лучше?» Дети друг на друга не обижались, это стало у них своего рода игрой. Выискивали речевые шероховатости и у взрослых, что тоже было полезно. Ошибка, пойманная при памятных обстоятельствах, не забывается. Помню, как радовался я, когда ученики сами стали замечать слова-паразиты, в обилии вдруг зазвучавшие на коммунарских собраниях: «утрясти вопрос», «определенно» (вместо «да»), «в общем и целом», «значит», «вообще», «в этой части» и т. д.
Словечки эти оседали у ребят в словарях. Я считал и считаю их отличным средством для обогащения лексикона. Услышал или прочел свежее слово – запиши, в классе мы разберем. По моему совету старшие школьники делили эти самодельные тетрадки на разделы: непонятные слова, крылатые слова, паронимы, метатезы, каламбуры, фольклор, народная этимология, «сибиризмы», слова-паразиты и прочее. Каждый из учеников записывал свое, но я видел, как развивается их вкус к живому меткому слову.
Очень полюбили игру слов, каламбуры, которые выискивали и в пословицах, и в книгах. «Будет вам по калачу, а не то поколочу» (Пушкин). «Злато, злато! Сколько через тебя зла-то!» (Островский). «Не богослов, а бог ослов!» (Лесков). «Он несколько разрумянился» (Л. Н. Толстой). И оживали ребячьи глаза, когда они улавливали это «несколько разрумянился», перекатывали слова во рту.
Мгновенно схватывали образцы народной этимологии: «стадо рассмотрели» (в стадии рассмотрения), «миродеры» (мародеры), «мараль» (мораль), «полуклиника», «долбица умножения» и т. п. Следом шли метатезы – слова с непроизвольной перестановкой букв (не так язык повернулся): «коркодил», «жевлак», «веретагианская кухня» (у Горького), «попал в запандю» (у Чехова). Привел я классический пример из «Соборян»: «Лимона Ивановна, дайте мне матренчика». И каков же был восторг моих учеников, когда вскоре на спектакле оговорился наш пастух, игравший одну из главных ролей. Должен был сказать: «Сюжет, достойный кисти Айвазовского», а ляпнул: «Айвазет, достойный кисти Сюжетковского!»
На следующий день ребята наперебой объясняли мне, что тут была метатеза, притом отдаленная: не в слове буквы перетасовал – а в целой фразе. Развилось у многих чутье к языку, научились вылавливать ходовые нелепицы вроде «Книжка страшно понравилась мне» или «Благодаря засухе хлеб не уродил». Конечно, речь ребят пестрела «сибиризмами», но я не стремился вытравить их, обескровить язык. Добивался одного: пусть отличают, какие слова общелитературные, какие – местные. И появились в их словарях новые залежи: буровить – бредить, варнак – хулиган, колок – лесок в степи, елань – полянка, загануть – задать задачу, коевадни – третьего дня, пятры – чердак, пошевни – род саней, трёкнуться – отречься, утресь – рано утром, насёрдка – злоба…