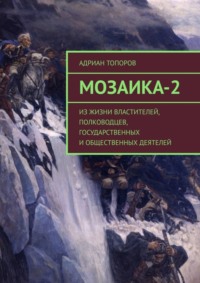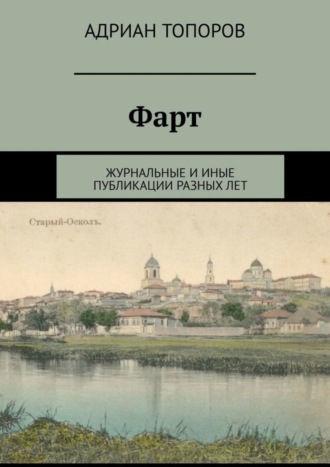
Полная версия
Фарт. Журнальные и иные публикации разных лет
Надо ли говорить, что я впитывал все как губка. Летом 1911 года Ешины сговорили меня ехать с ними в Курск – послушать оперу. Это было целое путешествие; меня поразил шум губернского города, толпища народа. Вечером давали оперу П. И. Чайковского «Евгений Онегин». Оркестр, пение и игра настоящих артистов так ошеломили меня, что я потерял ощущение грани между поэтическими созданиями и реальной жизнью.
Жизнь моя была исполнена теперь нового смысла, казалось, и мечтать мне не о чем, но часто в доме Ешиных возникали разговоры о далекой Сибири. То ли недостаток средств был причиной, то ли преследования местных властей – не знаю точно, – но они хотели переселиться туда. Положение каторжанина не помешало Леониду Петровичу полюбить этот край непочатой земли, необъятных просторов, неисчислимых природных богатств, свободолюбивых и сильных людей.
Из его рассказов Сибирь рисовалась нам сказочной страной, и постепенно вся семья Ешиных, а с ними и Евгения Георгиевна, и Макарий Животовский, и я возмечтали о путешествии. Сняться с места им было, конечно, тяжело, мне же – проще простого. Поговорка «ни двора, ни кола» вполне обрисовывала мое положение. Фанерный чемодан с одежонкой, тощая связка книг и дешевая скрипка, которой я успел обзавестись, – вот и все мое тогдашнее достояние.
Вечерами под зеленым абажуром раскладывалась карта, все отчетливее рисовалось переселение, все меньше смахивало на фантазию. И в августе 1912 года сбылось.
Так я попал в Сибирь, связав с ней жизнь на долгие-долгие годы.
4
Мы осели в Барнауле.
Леонид Петрович устроился на службу в Земельный отдел Алтайского округа кабинетных владений. Евгения Георгиевна хозяйничала. Александра Петровна и Животовский давали частные уроки, Андрюша, Вера и Лиза поступили в гимназию, а я получил место учителя в соборной церковноприходской школе, в самом центре города.
Поселился вместе с Ешиными на Никитинской улице. Домик этот под номером 145 уцелел и поныне.

Барнаул, ул. Никитинская, 145. Дом, в котором проживал Топоров А. М. в 1912 -1915 г. Фотография Топорова И. Г., 2008 г.
Вскоре по приезде я познакомился едва ли не со всеми интеллигентами города. Во-первых, их было очень мало в те годы, а во-вторых, благодаря Ешиным я сразу попал в этот круг. Семья-магнит по-прежнему притягивала интересных людей, заходили местные литераторы, адвокаты, педагоги, врачи…
Барнаул с начала века был одним из крупных культурных центров Сибири. Царское правительство само содействовало этому, хотя и самым диким образом: регулярно поставляло политических ссыльных. Течений они придерживались самых разных (я не особо разбирался в них), но люди неизменно были деятельные, образованные, думающие.
Известный археолог Николай Михайлович Ядринцев примыкал к народникам, сослан был по делу о «сибирском сепаратизме», а славен тем, что доказал существование древнейшей письменности в Центральной Азии и открыл развалины древнейшей монгольской столицы Каракорума. К либеральному течению сибиряков-областников принадлежал Григорий Николаевич Потанин – знаменитый путешественник, ботаник, этнограф, фольклорист, исследователь Сибири.
В Барнауле выходили две газеты – «Жизнь Алтая» и «Голос Алтая». Первую издавал купец Вершинин, а редактировал при мне бывший учитель Акиндин Иванович Шапошников, тоже политический ссыльный. Выделялись в газете и вызывали шум в городе ядовитые стихотворные фельетоны под псевдонимом «Премудрая крыса Онуфрий». Их автором был социалист-демократ, юрист по образованию, краевед и поэт Порфирий Алексеевич Казанский.
Был он мал, с бледным лицом и пискливым голосом, но на литературных диспутах с особым вниманием слушали его остроумные речи. Казанский знал и любил Сибирь, посвятил ей много краеведческих работ и два сборника стихотворений, изданных в Барнауле: «Песни борьбы и надежды» (1917) и «Родному краю» (1918). Они теперь прочно забыты, и совесть моя не мирится с этим. Вот как воспел он приход Октября:
Сбылась былая небылица.Пришла великая волна.Сибирь – вчерашняя темница,Сибирь – свободная страна!Газета «Голос Алтая» была поскромней, помещалась на Томской улице в трухлявом домишке. Было боязно подниматься по шаткой лестнице в комнату, заваленную рукописями и тонувшую в табачном дыму. Штат редакции подобрался в основном из политических ссыльных. Печатался здесь и Леонид Петрович Ешин, его фельетоны за подписью «Nemo» (никто) имели успех. К сотрудничеству в «Голосе Алтая» он привлек и меня, я начал с заметок, рецензий, потом опубликовал первую в жизни большую статью «Драма» – о самоубийстве сельского учителя, затравленного жандармами.
Единственный в городе книжный магазин Василия Кузьмича Сохарева помещался в небольшом доме близ Соборного переулка. Хозяин вышел из сельских учителей и, разбогатев, занявшись торговлей, не столько гнался за барышами, сколько хотел принести пользу народному просвещению. Рыжий, юркий, с узкими глазками, он был кипучим коммерсантом культурного типа. Сам следил за всеми новинками, непременно прочитывал все книги, критически оценивал, всегда мог дать дельный совет. Плохих книг вовсе не продавал. Магазин Сохарева стал своего рода клубом, здесь сходились книголюбы со всего города, вели жаркие словопрения, их непременным участником был и я.
И еще один своеобразный клуб тянул меня – музыкальный магазинчик «Эхо». Держал его, был и хозяином, и кассиром, и единственным продавцом Антоний Иванович Марцинковский. Низенький, будто расплющенный, странно ходивший правым боком вперед, он был неплохим музыкантом и часто присаживался к пианино, чтобы проиграть какое-то новое произведение. Здесь всегда толпились любители инструментальной и вокальной музыки, тоже шли споры, и не раз я уносил отсюда классические сочинения в дешевом издании Ямбора.

Барнаул. Начало ХХ века. Ретрооткрытка. (Источник: открытые источники)
Так потекла моя жизнь в Барнауле, и я не понимаю теперь, откуда бралось время на всё.
5
Кроме того, о чем я успел рассказать и о чем еще расскажу, мне надо было работать в школе и самому усиленно заниматься. Взяв курс на народный университет имени Шанявского, я готовился к поступлению в него. Ежедневно с четырех до семи часов вечера работал в библиотеке – читал, делал выписки, конспектировал.
Заведовала библиотекой политическая ссыльная Ульяна Павловна Яковлева. Меня она приметила быстро, мы познакомились, я узнал ее сына Александра, который был директором городского училища, и его жену Ольгу, учительницу. Много позже, в январе 1925 года, мы с ней входили в состав Алтайской губернской делегации на 1-й Всесоюзный учительский съезд в Москве.
Ульяна Павловна была энергична, строга, приучала читателей вдумчиво работать над книгой. Если нужных книг в библиотеке не было, то добывала их по особому заказу даже из-за границы. Эта маленькая женщина в больших очках, делавших ее похожей на летучую мышь, стала для меня истинным лоцманом по безбрежным книжным морям. Принесешь, бывало, книгу на обмен, а она поманит пальчиком в свой кабинет и начинает допрос:
– Что прочли?
– «Новый органон» Бэкона Веруламского.
– Так… Поняли что-нибудь?
– Понял, Ульяна Павловна.
– О чем же говорится в книге?
– Об опытном, индуктивном методе познания мира. Бэкон и открыл этот метод.
– В чем его суть?
– В том, что все предметы и явления внешнего мира познаются нашими внешними чувствами, опытом, а их восприятие проверяется нашим рассудком.
– Так-так, – скажет она.– А покажите-ка мне выписки из книги…
Выписок этих, конспектов, читательских дневников, записных книжек, карточек для картотеки с цитатами, вырезок из газет накопилось у меня множество. Они были потом моими неизменными спутниками в работе.
Мы иногда недооцениваем возможностей самообразования, хотя всякое образование прежде всего – «само», ибо научить человека ничему нельзя, он может только научиться, научить себя. Никто не подгонял меня, надо мною не висели оценки, зачеты, экзамены, а мне трудно даже перечислить труды ученых и мыслителей, которые я не просто прочитал, но проштудировал самым добросовестным образом. Среди них были сочинения Дарвина, Уоллеса, Тимирязева, Ляйеля, Моргана, Дрепера, Костомарова, Ключевского, Мечникова, Пирогова, Сеченова, Спенсера, Бокля, Плеханова, Михайловского, Лаврова, Бебеля, Тиссандье, Песталоцци, Ушинского, Локка, Руссо, Яна Амоса Коменского, Фребеля, Потебни, Буслаева, Фортунатова, Мейе и, разумеется, книги Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева и десятки иных.
О художественных произведениях я уже и не говорю: я «проглотил» их без счета! Учитель – это отчасти артист, по самому роду профессии он оратор и должен правильно, живо, красиво говорить и читать. Меня убеждал в этом Леонид Петрович Ешин, часто повторяя афоризм Легуве:
«Голос – это такой толкователь и наставник, который обладает дивной, таинственной силой».
И я, сколько позволили силы и способности, начал учиться ораторскому искусству. Добыл книгу «Школа чтеца», изучал сборники речей знаменитых адвокатов и политических деятелей – Кони, Плевако, Спасовича, Маклакова, Урусова, Жореса, Гладстона, Линкольна.
Все это пригодилось мне потом при чтении книг детям и взрослым, а первый опыт публичного выступления запомнился надолго.
Зима 1913—1914 годов… Барнаульское филантропическое общество собрало беспризорников в школе при Богородицкой церкви. В программе значилось: назидательное слово о детском благонравии, художественное чтение, хоровое пение и чай с пирожками. Устроители предложили мне прочитать детям какое-нибудь сочинение посерьезнее. Я выбрал «Приключения барона Мюнхаузена».
И вот стою перед страшной аудиторией. Грязные, озлобленные лица, лохматые головы, немыслимое тряпьё. Юное человеческое «дно» гудит, рычит, толкается в ожидании пирожков. Назидательную проповедь священника никто и не слушал. Настал мой черед. Читаю о попытке барона залезть на луну по бобовому стеблю – слушатели начинают затихать. Читаю о скачущей половине лошади – смеются. Приступаю к истории об утках, зажаренных на лету, – хохочут вовсю их матушку-головушку. Всё, закрываю книгу.
– Дядь, еще, еще читай!
– Ой, баско!
– Хлопает, а интересно!
– Давай еще!
«Хлопает» – по-сибирски «врет», «баско» – значит «хорошо». Дошло мое чтение. И я отдал ребятам книжку, а после купил вместо нее для библиотеки другую.
Одним их моих университетов стал театр, о чем тоже не могу ни сказать. Он играл в ту пору большую роль, чем теперь, поскольку не существовало еще ни радио, ни телевидения, а «синематограф» делал первые шаги. В старом Барнауле было три более или мене постоянно действующих театра – в Общественном собрании (преимущественно для купцов), в Управлении Алтайского округа (для чиновников) и в Народном доме (общедоступный).
«Своим» стал для меня общедоступный театр в Народном доме. Антрепризу там держал бывший актер Батманов, труппа была профессиональная, репертуар сменялся быстро, за Шекспиром следовал Сухово-Кобылин, за Ибсеном – Южин-Сумбатов, Леонид Андреев, Салтыков-Щедрин, Гауптман. Чириков, Писемский, инсценировки Достоевского…
Конечно, провинциальный тогдашний театр нельзя, да и не к чему сравнивать с лучшими современными театрами страны. Постановки готовились наскоро, больше двух-трех раз пьесы не шли, и это не могло не сказаться на уровне исполнения. Но я был молод тогда, впервые приблизился к театру, и, случалось, переживал в нем минуты глубокого потрясения.
Помню, какой восторг зрителей вызвала пьеса Горького «На дне». Впервые просили задержать в репертуаре спектакль, и он повторялся раз десять – это было очень много. Впервые вышли на сцену рваные босяки, впервые мы слышали открытые слова протеста. В зале дежурили наряды полиции. Песня «Солнце всходит и заходит» приобрела в Барнауле широчайшую популярность.
Рассказываю подряд о своих впечатлениях, самых разных, потому что все это вместе – спектакли, музыка, диспуты, общение с людьми, чтение книг – и делало меня человеком. За один год я узнавал больше, чем за всю предшествующую жизнь, а учитель, если он хочет быть настоящим учителем, должен очень много знать.
Итак, я вел свои школьные уроки, сам занимался в библиотеке, вечера проводил в театре, ходил на все концерты, каким-то образом ухитрялся еще брать уроки скрипичной игры, не пил, не курил, копил деньги на учебу в Москве. Заработок нашелся неожиданный: я переписывал ноты. В них нуждались хоры и оркестры, которых было в Барнауле немало. А я писал ноты, как печатал (спасибо Каплинской школе), заказов имел по горло и зарабатывал достаточно.
Может быть, поэтому решился попроситься в ученики к большому музыканту: у меня было чем заплатить за уроки. И после концерта приезжего гастролера, в ту пору известного, пошел в гостиницу, где он жил. Профессор Медлин любезно выслушал мою просьбу и сказал:
– В Томске я буду весь июнь, потом уеду в Петербург. Если хотите, приезжайте ко мне. Я займусь с вами.
И я с радостью прикатил в Томск. Снял скромный номер в гостинице «Золотой якорь», и, подхватив скрипку, отправился на первый урок. Прослушав гамму, маэстро заметил:
– Ваши педагоги, молодой человек, верно поставили вам левую руку, а правую кисть одеревенили. Надо ее расплавить. Держите смычок как бы шутя, не впивайтесь пальцами в трость. Смотрите.
Он показал, как это делается, и дешевенькая моя скрипка запела. Я тоже начал водить смычком по струнам, подражая ему, и чудо свершилось – рука ощутила свободу, звук стал мягче и полнее. Сами термины «одеревенили» и «расплавить» показали суть моих огрехов, запомнились на всю жизнь. Как важно, оказывается, для педагога подобрать образное слово, чтобы ученик понял свою ошибку.
С некоторым трепетом ждал я разговора об оплате уроков (хватит ли накопленного?), но когда заикнулся об этом, милейший Яков Соломонович улыбнулся и, тряхнув буйной гривой темных волос, сказал, что деньги пригодятся мне для другого. И прилежно занимался со мною до того самого дня, когда его вызвали телеграммой в столицу.
Само собой, в Барнауле я был исправным посетителем всех музыкальных концертов. Узнал однажды, что в Мариинской женской гимназии пение преподает композитор Семен Васильевич Шаронов, и в воскресенье отправился к нему.
– Хочу познакомиться с живым композитором… Топоров Адриан, учитель и неискоренимый любитель музыки. Прошу любить и жаловать.
– Очень рад, очень рад!
Мою руку жал человек лет сорока, с открытыми серыми глазами. Разговорились, и вскоре показалось мне, будто сто лет с ним знаком. Как и я, Шаронов вышел из деревни, работал столяром в Бийске, пел басом в церковном хоре, увлекся всерьёз музыкой, самоучкой постиг теорию этого искусства, ездил на курсы в Пермь, Москву, Петербург, сочинил ворох мелодичных композиций, они начали исполняться – словом, прошел человек трудный путь русских самородков.
Первая же встреча с Семеном Васильевичем затянулась у нас часов на семь. Пели дуэтом, беседовали о музыке, о литературе, о театре, потом взялись играть – он на фисгармонии, я на скрипке…
6
В очередное воскресенье мы с Шароновым играли «Колыбельную» Годара. В комнату тихо, как бы крадучись, вошел молодой человек. На лице его плавала ироническая улыбка.
– А Костюша! Здорово! Здорово! – Хозяин дома прервал музыку и шутливо представил нас друг другу. – Это – мой друг Костюша Еремеевич Багаев, здешний жрец Эскулапа, а это – любитель музыки, учитель Адриан Топоров.
Я тогда легко сходился с людьми, новый знакомый мне понравился, вскоре мы стали друзьями. Этому веселому лекарю суждено было очень многое повернуть в моей жизни. Встречались обычно у Шаронова, по-прежнему музицировали, но и беседы вели, и спорили все чаще. Я заметил, что Костюша предпочитал темы политические, зло и метко высмеивал черносотенных зубров – Пуришкевича, Маркова-второго и их поддужных.
В ту пору властителем моих дум был Н. К. Михайловский. Как-то завел я разговор о его статье «Герои и толпа», высказал свои восторги, но Костя с ухмылкой возразил:
– Полководец, даже самый разгениальный, без армии – нуль! Да и сам-то кем выдвигается? Армией! Он потому и ведет армию, что выражает ее волю.
– Но все-таки выражает! – сказал я. – Все-таки от него зависит успех!
– Ох, братцы, и мусор же у вас в голове! – Костя посмеивался, глядя на Шаронова и на меня. – Приходите ко мне, дам вам одну работу, написанную в пику вашему Михайловскому. Любопытнейшая книжица!
Меня сердило, что обо всем у него есть готовое мнение, что все ему как бы заранее известно, но любопытство взяло верх. Костюша жил с семьей на 2-й Алтайской. Лекарский домишко походил на двухэтажную скворечню. Казалось, дунь сильный ветер – и дом рассыплется в прах. Мы с Семеном Васильевичем поднялись наверх. Костя угостил нас чаем и только после этого достал из сундучка книги.
– Держите, вникайте!
Я раскрыл затрепанную обложку. Фамилию автора уже слышал: Г. В. Плеханов. Название показалось трудным: «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».
– Поймем? – спросил Шаронов.
– Ничего, думать полезно! – улыбнулся Костя. – Тут вы поймете, что не воля героев делает историю, а производство, экономика, классовая борьба.
Когда гуляли по городу, Костя Багаев тянул нас на окраины Барнаула, которые до этого мало интересовали меня: чего я там не видел? На главной улице были витрины магазинов, пышные особняки, нарядная толпа, а там – знакомые мне по прежней жизни грязные лачуги, беспросветная нужда, вонь, ругань, пьянство. Но как-то Костюша сумел подвести нас к мысли, что стыдно отрываться от народа, из которого мы все вышли. С окраин возвращались совсем в другом настроении, и, бывало, остановившись у богатых особняков, Костя говорил:
– Все это – пот и кровь народные! У Сухова шестнадцать домов в городе. Восемнадцать пузатых самоваров, три пуда золотой и серебряной посуды. Сколько нахапали, ареды!
Не хочу задним числом «улучшать» себя. Я еще полон был прежних прекраснодушных устремлений, Маркса знал понаслышке. Ленина не читал, но вера моя в народнических кумиров уже сильно подорвалась.
Помнится, в жаркий летний день Костя соблазнил Шаронова, меня и мастера—обойщика Тимофея Демченко прогуляться в монастырский бор – лучшее место отдыха в тогдашнем Барнауле. Искупались в речке, перекусили, легли в уединенном уголке. По бору разливалась сосновая испарина, тянуло в сон, но Костя достал из кармана очередную брошюру.
– Хотите, почитаю вам сказочку?
– Брось, Костюша! Экая благодать, а ты тут сказкой. Мы же не дети.
– Да нет, эта сказочка как раз для взрослых.
И прочел нам памфлет Вильгельма Либкнехта «Пауки и мухи». Отдых наш пропал. Это был страстный призыв к революции. С поразительной силой автор изобразил социальных пауков и бедных мух, которых убивают пауки повсюду, беспощадно, ежечасно…
Костя Багаев всегда прикидывался беспечным рубахой-парнем, и лишь впоследствии я понял, что он, говоря по-нынешнему, делал все, чтобы «распропагандировать» нас. Истинную свою роль в Барнауле он так и не успел мне раскрыть, и я лишь через десятилетия узнал, что был наш Костюша большевиком-подпольщиком.
Мы расстались в 1914 году.
Грянула первая мировая война, и день мобилизации запасных отмечен был в Барнауле грандиозным пожаром. Орали песню рекруты, над ними выли, как над покойниками, бедные бабы.
Трагедию войны тяжело переживала вся страна. Об этом шли разговоры у Ешиных, я уходил отдохнуть к Шаронову, но и с ним неизбежно говорил о войне. Как-то он показал мне ноты только что сочиненного «Реквиема», сел за фисгармонию, я взял свою скрипку, заиграли, но тут в комнату влетел возбужденный Костя.
– Друзья, я мобилизован! Через час должен быть на сборном пункте.
Скомкалась наша последняя встреча. Семен Васильевич предложил послушать его новую вещь, мы взялись за инструменты, он негромко запел:
Ах, сколько, сколько пало ихВ борьбе за край родной…Костя перебил:
– Это ты, друг, панихиду, что ли, по мне сочинил? Нет, погодите петь ее. Война эта народу чуждая, ни рабочим, ни крестьянам, она ни к чему. Мы еще повернем штыки и пушки на кого следует. Вот увидите!
Расцеловался с нами и быстро ушел.
Больше я не видел его, ничего не слышал о нем. А в 1961 году, после полета Г. С. Титова, заговорили о родине Космонавта-2, о родном его селе на Алтае, о сельской школе, мелькнуло в газетах и мое скромное имя, и тогда нашло меня письмо Константина Еремеевича Багаева. На восемьдесят шестом году своей жизни (как оказалось, за два дня до смерти) он прислал мне книгу мемуаров «Всю жизнь». В ней нашел я такую надпись:
«Моему дорогому, незабвенному другу юношеских лет Адриану Митрофановичу Топорову – дарю эту книжку, в которой записана вся моя нелегкая жизнь.
Член КПСС с 1909 года К. Багаев».
Я смотрел на портрет старика и все старался разглядеть сквозь морщины озорную Костину улыбку.
7
В 1915 году пришлось мне покинуть Барнаул. Отношения с церковным начальством обострились до крайности, и в один прекрасный день я заявил отцу Анемподисту, что не верю ни в бога, ни в черта, а его самого не ставлю ни в грош. Учительская замерла.
– Уволю! – завопил он. – Изгоню!
– Сам уйду!
Я пошел к инспектору начальных министерских школ Владимиру Михайловичу Курочкину и подал прошение, чтобы назначили меня в одну из деревень. Думал, что еду на год-другой, а вышло – на семнадцать лет. Можно точнее сказать: на всю жизнь. Потому что наконец-то я нашел свое настоящее место в жизни; в город больше не вернулся, стал сельским учителем.
Село, куда меня занесло, носило три названия: по-административному – Верх-Жилинское, по-церковному – Терёшкино, а по-народному – Журавлиха. Последнее имя получило за то, что раскинулось между сограми (болотами), где водились журавли. За сограми виднелись увалы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, за ними лежала степь.
Я застал там две школы. Церковноприходская была почему-то вдали от церкви, на краю села. Учительствовала в ней тихоня вроде старой монашки. Министерская школа, напротив, помещалась рядом с церковью, в самом центре села. Это был бревенчатый сарай, к тому же недостроенный. Мне сказали, что мужики долго ругались на сельском сходе, но на пятачковый сбор со двора так и не согласились. Доски поверху набросали кое-как, крыша текла, сеней не приделали, к входной двери вела лесенка из шести кривых, «опасных» ступенек. В сарае и началась моя просветительная работа.
С чего началась? Окончив школьные занятия, я вечерами ходил на «сборню», где сходились мужики. Здоровался, садился с ними, больше помалкивал. Разговоры шли в основном о русско-германской, о войне, куда угнана была вся верх-жилинская молодежь. Как-то я предложил бородачам почитать газету. «Давай, паря, – согласились они. И начал я читать – «Жизнь Алтая», «Сибирскую жизнь», «Русские ведомости», «Русское слово». Интересовали сводки военных действий, а особенно, как я заметил, – речи оппозиционных членов Государственной думы. В этих речах проскальзывали намеки на наши неудачи, на бездарность генералов, на измену придворной камарильи. Мужики хмурились:
– А чо им? Жалко нашего брата? Им все едино!
– Целые армии царицыны енералы топят в болотах…
– Она, лахудра бесчестная, хочет ряшить государство!
Постепенно крестьяне привыкли ко мне, да и я узнал их, понял, до чего они все разные. Одинаков «народ» для стороннего наблюдателя, а живя с людьми, видишь, кто как думает и кто чем дышит. Очень интересные были в Верх-Жилинском мужики; попадались и грамотеи, которых остальные именовали «политиками». Начали время от времени приходить ко мне, просили почитать книжки. Я, конечно, давал. И они стали мне верными друзьями, постоянными собеседниками, лучшими помощниками в культурно-просветительной работе. Можно и по другому сказать: добрым помощником им старался быть я.
Назову хотя бы некоторых: П. С. Зубков (будущий председатель коммуны, коммунист, редкий самородок), братья Иван и Степан Корляковы, Иван и Тимофей Стекачевы, Филипп и Иван Бочаровы, Прохор и Егор Блиновы, братья Алексей, Евдоким и Иван Зайцевы, Василий Титов, Роман и Михаил Шитиковы, Павел Титов и Михаил Носов… Последние двое – деды по отцу и матери Космонавта -2, о чем, понятно, никто тогда не мог подозревать.
Однако рассказ о них впереди, а пока хочу вспомнить об одном оригинале, с которым пришлось познакомиться в Верх-Жилинском. Оригинал был поп. Едва приехав в село, я увидел на воротах, заборах, наличниках, на березах и соснах, даже на церковной стене странные плакаты. Зеленые пятиконечные звезды венчали их сверху, под ними был текст: