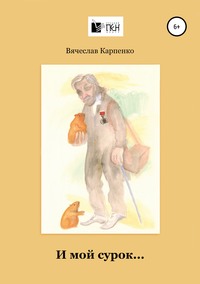Полная версия
Истинно мужская страсть
– Тем же тунгусишкам, печешься о которых, – снова заговорил Бровин, зачем-то нужен был спор ему. – Не все им спиваться да в темноте пребывать. Ты вот чего так о них печешься-то, а, Варсонофий? Может, без нее они и счастливее, без веры твоей? Не думал? И жили б, как жили…
– Словеса… еще и себя за мерзости по головке погладим: для блага, мол, совесть свою ущемляю, страдаю, мол, а иду на то… – попик рассмеялся, гулко закашлявшись, и погрозил пальцем. – И не лови меня, не лови! Удобнее так-то: пусть живут в темноте своей, да не в темноте – в наиве детском, а тебе того и надо… и не тебе только… всему Молоху… инородцы, мол! Теперь малыи сии у тебя на пути стали – благо, видишь, сотворить решил: как же не пожертвовать жизнью… кому она заметна, одна ли, две… где тот счет кончится?.. Церквей много, государств на земле еще больше… а бог един. И человек перед ним тоже – один встанет… как с собой…
– Постой, постой, преподобный! – Иван Кузьмич перегнулся к проповеднику. – Вот тебе тунгусы шкур мешок набрали. До-обрых! На храм, мол… А ты сам веришь в него… в храм-то?
– И-ишь ты… хитроумный ты, Иван… ты храм, как избу свою видишь, а разобраться… и церковь того же твоего взгляда жаждет: много званных, да мало избранных. Так это кто отбирать будет? Ты? Я?.. А то – пристав, ему виднее? Ан – каждый избранный в храме том, ка-аждый, каждый! Ибо храм – это путь: к совести, к добру. И лишь счастливые да сознающие дарить способны, но не нищие духом, на стадо уповающие… да стадо же в дерьме, прости господи, собственном и топчущееся… уж так ли легко из него душу отторгнуть…
– А не веришь ты в святую свою церковь, Варсонофий… Санофей, как тебя старик звал, не ве-еришь! – пропищал это Бровин почти весело, и откинулся назад, и поднял стакан. – Выпей со мной, не бойся – хорошо с тобой, так что не поплывем мы нынче.
– Не боюсь… и не лови меня, – священик оставил стакан, взглянул на Ивана Кузьмича насмешливо, – служу, поелику возможно, честно, чтоб человека уберечь… о добре напомнить. Не всегда совместишь, правда… рухлядью той, что попрекаешь, не себе занимаюсь… слаб человек – через красоту к благоговению да чистоте в помыслах своих легче вести его, поскольку мысли еще доверять не научился…
– Сожгли бы тебя прежде, а? Еретика? Мне благочинный говорил в таком роде что-то… еще давно, еще как задружились с тобой… беглец ты откуда-то?
– Да?.. все не успокоится… ну, да ладно: сейчас о другом речь у нас, Иван, – отец Варсонофий тряхнул головой, будто отгоняя прочь слабость свою. – О тебе разговор: не дело у тебя с Сэдюком, что обретешь с его…
Дверь распахнулась, не дав ему договорить, на пороге встал Игнат: «Как сказали-с, хозяин…»
– Что, Гарпанча вернулся? – вскинулся Бровин.
– Это так точно, только… привезли его: сын ваш, Кирилл Иваныч приехали… радость вам изволите-с!
– Ч-што мелешь-то! Думай, чего шутить…
– Не без понятия, – обиделся приказчик. – Сами увидите счас. Из дому они. С Лужиным-инженером верхами…
– Из какого еще дому…
«Ох!» – выдохнула за спиной Ивана Кузьмича женщина, и вздох тот холодной струей потек по его позвоночнику.
– И оставь ты – не зуди… поп! Без тебя! – взвизгнул вдруг купец. И – мимо приказчика – дверь хлобыстнула.
2
А они уже подходили к дому: два человека, в одном из которых Иван Кузьмич узнал инженера, мельком признал, бегло – по круглым очкам, по короткой студенческой шинелишке с сохранившимся на плече вензелем горного института.
Чуть поотстав, кругло улыбался этот… Тонкуль, ведущий за повод двух мохноногих пузатеньких лошадок, равнодушно поднимающих на дерганье узды тяжелые головы. «Разнуздал бы… ах, недокусок, хреновина какая, – хотел было крикнуть Бровин. – Да что же… ведь и в самом деле…»
– Кирка!.. – хрипло получилось, и Иван Кузьмич суетливо, а потому неуклюже и задышливо спустился с крыльца, чуя непонятную тяжесть в подвздошье. – и впра-авду… Кирилл, ты-и?!
Он облапил сына, не заглянув в глаза, непривычно придавил его к себе, но ощутил сопротивление худого тела под казачьей офицерской бекешей и отстранился.
– Подожди… пос…..те, отец, не так бурно! – в голосе Кирилла послышался давний усмешливый тон, но самого голоса старший Бровин не узнал – сиплый, натужливый, прервавшийся мелким осторожным кашлем, темно отхаркнувшимся в сторону. – Потом… веди уж в дом… Мы вот с Лужиным…
– Да… что ж я, на радостях… нежданно… устали, – Иван Кузьмич отступил, протянул ладонь невысокому инженеру, по скошенной улыбке его понял ненужность своего несоразмерного пожатия. – Пристали конечно?..
– Трое суток с вашим охотником тянулись… снег этот некстати – мокреть… А Кириллу Ивановичу… – начал инженер, высвобождая ладонь из лапы купца, но увидел отрицающий поворот головы своего спутника и закончил: – Горячего бы сейчас с дороги, водки и… в постель! Полмесяца добираемся…
– Гарпанча шибко больной ходили, амака-мишка помяли было, – улыбчиво пояснил тунгус. – Вот насальник звери помогли возили… ха-алосый зверя… ц-це!
Но Иван Кузьмич пропустил мимо ушей его слова: лицо сына под серой папахой было худым и нездоровым до зелени, отросшая щетина утопила в себе щеголеватые усы и возраст Кирилла. «Чего-то с ним…» – кольнуло Ивана Кузьмича.
– Игнат… кто там?.. Симка, – он обернулся, ловя себя на нежелании встретить взгляд сына. – Возьми лошадей! Не видишь ли? Да пойдемте, в дом пошлите… – и приобнял сына со спутником за плечи, пропуская их вперед. – В дом, в дом…
– Я приду погодя. Ты ступай пока… Тонкуль… или вот с лошадьми уж помогай, – сказал еще тунгусу. – Да железо вынь – удила-то у них, чо дергаешь, дура…
– И-и, – готовно дернул парень рукой с поводьями, и лошади, прянув, согласно подхватили головами. – Без-со дусы старый рано уходили, а Ремей след посмотрел!.. Моя помогали будим для твой – а твой нам всегда помогали…
Иван Кузьмич, уже не глядя, отмахнулся: «Ладно, не до абракадабров твоих». И повлек сына с инженером на крыльцо: «Да как же решились-то?.. ну, слава богу, хоть добрались живы…»
Сдерживал, ох и сдерживал себя Иван Кузьмич: в кулаке сердце сжал, будто и хрустело оно теперь в пальцах… что же это получается? Что получается-то?..
Он глядел на прямую спину Кирилла, видел неширокие плечи, почему-то часто передергиваемые, словно сыну за ворот попало что, поднимал глаза к закругленному затылку над коротким, стойкой, воротом бекеши. Сероватые волосы были высоко стрижены и плоско притерты к голове папахой, которую сын держал теперь в руке. «Стригся ли что ли… не оброс, – зачем-то размышлял Иван Кузьмич, будто это сейчас так важно – когда же побывал у парикмахера сын. – Готовился… торопился». И собственный затылок сдавило: «А это… война ли кончилась?..» – подумал. Или спросил?
– Вчистую демобилизован поручик… Георгием с бантом награжден, – негромко сказал рядом в полутьме закоулка на хозяйскую половину инженер, а дальше тихо вовсе бормотнул: – да, с бантом… но без легких, вот так. Иприт…
Выдохнул воздух Бровин-старший – как нутро вывернул. Впереди светлел дверной проем, в нем стыло лицо Любавы, глаза ее над плечом Кирилла уже затягивались слезами – нет, не радость нежданная их наливала свинцовой тяжестью, отчаянье, отчаянье.
3
Сэдюк ушел недалеко.
Всего один переход, дневной короткий пеший переход отделял его сейчас от фактории и становища. Куда ему было торопиться? Он ушел с земли, на которой мог встретить человека, на этом берегу нечего делать охотнику, никому здесь не помешает Сэдюк. Дорога на этом берегу Тембенчи ему одному известна, он знает, куда она приведет. Её знал до него Ухэлог… нет, не успокоится Иван, обязательно на след станет.
Сэдюк дотянул свои легкие нарты, с которыми перебрался на плотике через реку, до валунного всхолмия, заросшего можжевельником и кривым осиновым подростом. Здесь можно было развести костер и связать четыре жердины для шалаша. Здесь от дождется Итика. Сэдюк знал, что собака найдет его, если Гарпанча – пусть боронят охотника предки – благополучно вернется на становище. «Почему ты должен уйти, отец?» – спрашивала его Арапэ.
Что поймет девушка, пусть и дочь, думал Сэдюк, глядя на синеватые языки невысокого огня, который он подкармливал совсем понемногу – только чтоб жил. Что поймет?.. если и мужчины, которые столько лет приходили к нему, слушали и всегда соглашались с его словом, потому что самому ему слово то давалось непросто… да, и мужчины теперь отторгли его. Ну, старые люди ладно – те всегда ревновали его близость к Ухэлогу… они не хотели принимать его, Сэдюка, и тогда, когда умер Ухэлог. Никого не может он и сейчас взять туда, куда уйдет нынче… один Итик пойдет.
Это предрекал Ухэлог, еще травы показывая предрекал, это и случилось: «Ты – волею добрых духов неба, воды и огня, леса… и птицы в нем и зверя, – глядя поверх головы Сэдюка и уже чему-то своему усмехаясь, тихо шептал ему ссохшийся Ухэлог. Он уже забыл о больном русском, о пурге забыл и о занесенных пургой добытчиках, которых погребет потом Сэдюк под камнями, и о третьем, что так и остался в избушке на том ручье, позабыл уже Ухэлог, как не помнил об огне среди тех деревьев, накрытом мокрой пургой огне… но продолжал шептать свое предостережение, перекладывая на Сэдюка свою ношу. – Велением душ предков наших… и твоих… обрекаешься, Сэдюк, на великое страдание… ни человек, ни зверь, ни птица не должны знать тайны… земле одной принадлежит она… и на той земле род твой жить будет, детей рожать будет… пока не уйдет знание твое в чужие руки пришлых людей… не сделает знание тайны той богаче, сильнее… ни счастливее познавшего ее, но дается на сохранение для спокойствия рода твоего… гибель несет ему… помни, Сэдюк… вырви язык свой, лишь захочет он потревожить знание то… в другой мир отправь жену, если подслушает во сне… уничтожь дорогу и по ней идущих, если откроется дорога человеку… проклятие прими и уйди за мной, если сам род твой той дороги потребует… там меня оставишь, Сэдюк… и сам ляжешь… и кому передашь, пусть ляжет…» Вот как шептал ему Ухэлог, прерываясь, отплевывая и хрипя так, что и на слух чуялось, как сопротивляется в нем живое иным силам, уже перехватывающим слабый голос. Так и было, так и было… уходил Ухэлог, и один Сэдюк знал, куда нужно переправить остывающее ссохшееся тело… «там меня оставишь и сам ляжешь»… пришло, видно, время!
Ночь все меньше оставляла времени для света, день вовсе коротким делается. Надвинувшаяся ночь не пугала старого Сэдюка. Звезды загорались все ярче, их появлялось все больше. Сэдюк спокойно смотрел, как сливаются они на зеленеющем темном небе в алмазную реку, как течет та река совсем далеко, обращаясь вокруг сияющего кола в самой середине – Полярной звезды. Скоро и его душа поплывет той рекой, он знает это, хотя никому не дано ни поторопить, ни задержать время Большой кочевки.
Куда ему торопиться? Угли костра чуть тлели у самого входа шалаша. Полость у входа была откинута, верхушка связанных шестов сходилась почти над головой сидящего на корточках Сэдюка, спину же прикрывал от потяга ветра шалаш. Красновато моргающие угли не мешали видеть искрящееся текучее небо, зеленовато-медный серпик новорожденного месяца.
Да, долго ждал, однако, Большой Иван… Сэдюк пошевелил меркнущие угли, устало закрывающие глаза пепельными веками. Огню тоже отдохнуть надо, пусть. Старик поднялся, высокий, худой, хотя пригнанная одежда и скрашивала сухость тела, сильного еще, жилистого. Он повел плечами и обернулся туда, в ту сторону, откуда пришел и откуда ждал Итика. Там, на полпути, пройденном Сэдюком, угадывал старик блики огня: «костер, однако…» Нет, не успокоится Иван, вот поставил кого-то на его след… кого?
Ладно… Сэдюк осторожно, встав на колени, влез в шалаш, развернул меховой мешок. Ночевать надо. Вынул трубку, нащупал пузырь, в котором хранил табак. Вот табаку надолго хватит, еще Иван пачку добавил… всего надолго хватит, даже порох дал купец – не нужна смерть Сэдюка Ивану, ох не нужна – надеется, что испугает его одиночество. Не мог понять, что Сэдюку судьба такая, всегда одному быть, человек только тогда за других болеть может, если один быть научился… за себя отвечать научился.
Старик снял парку, потом набил трубку табаком. Пососал холодную трубку, подумал – стащил с ног мягкие ичиги, оставшись в меховых носках. Потом выбрался из укрытия и поворошил кострище. Угли еще сохраняли огонь, хотя уже надо было оживить дыханием засыпающий жар, чтобы прикурить. Пыхнув несколько раз дымом, старик прислушался. Тишина была спокойная, а молоденький месяц готовился юркнуть за сопку. «Лучше бы Итик не приходил, – спокойно пожелал старик. – Куда пойдет со мной?» Табак примирял с жизнью, и Сэдюк пожалел отца Санофея, который не курил табак… потому, видно, и неспокоя в нем много, в попе-батьке. Потому и не понял Санофей, отчего Большого Ивана жалко Сэдюку… или понял? Он умный, хоть и учит, что его бог может изменить что-нибудь. Зачем он менять будет?.. он ведь уже сделал землю, так… жизнь дал, смерть дал, так? Что еще помогать надо… пусть человек сам думает, он боится жить, хочет опять подмоги… У ребенка мать есть, отец есть – кормят, ходить учат, зверя добывать учат… ну-ка, не отпустят зверя самому брать, все свои куски давать будут, что станет, Санофей?.. помрут мать-отец, куда денется большой ребенок, за ними уйдет?
Месяц нырнул за сопку, а звездная река быстрее потекла своим мерцающим путем. Студеный свет придавил ночь к самой земле, и старик зябко повел плечами – спать надо. Он залез в мешок по плечи, не выпуская трубки, полог шалаша опустился за ним, и Сэдюк нащупал рукой пальму. Они не хотели слушать его, Сэдюка… он прикрыл глаза, вспоминая, что люди не хотели его принимать и тогда, два десятка лет назад, когда умер Ухэлог… тогда их учил толстый Калэ, который был «дружком» – сам ходил к Оверкину-купцу, сам притаскивал товары… дорого драл Калэ, дядя Тонкуля, со своих родичей, куда как дороже Большого Ивана. Толстый был Калэ, а должникам своим любил детей делать… сгорел потом Калэ от водки и огорчения, потому что пришел Большой Иван Бровин с товарами прямо на берег Тембенчи, факторию построил – совсем дешево всем давал… только еще боялись Калэ люди: к бабам своим еще пускали детей делать, и от Сэдюка отказались, хотя знали, что Ухэлог научил его травы ведать, лечить научил и с духами разговаривать научил. А не приняли, хоть ничего не брал за лечение и помощь Сэдюк… какая помощь, если за плату?.. не будет пользы и травы тогда не отдадут… Ушел он, на два года в лес ушел, чтобы никто не видел и он никого… так надо – Ухэлог сказал – «хочешь заставить слушать – научись молчать», а как вылечишь, если слышать тебя не сумеют?.. два года в лесу – у ворона кричать учился, у медведя рычать учился, луне песню петь у волка учился, мяса-рыбы не ел – слушать траву учился… плохо узнали люди Сэдюка, когда вернулся, чужой стал… «своему не верят – похожий что умеет?.. чужому верят, другим стать надо» – тоже Ухэлог учил, когда не помер… Когда сейчас передаст Сэдюк эти слова, кому? Некому – кто поймет?.. Гарпанча чужой, иргинэ, Арапас-Катя – девушка, ей много изменяться надо, пусть родит лучше…
Нет, не хотели его слышать, все забыли… Иван долго добрым был, поверили – больная душа, подменилась душа Сэдюка, пусть уйдет… Они молчали, а взгляды их обтекали Сэдюка – его уже не было… так не было, что кто-то, поколебавшись, прошел рядом и наступил на его слабую тень… и все остальные люди двинулись от чума этой тропой по тени Сэдюка, не видя его самого… не может жить среди людей человек с растоптанной тенью. Из чума, где одетого во все новое для далекого пути Дюрунэ уже завернули в шкуру, слышался басовитый речитатив отца Варсонофия, читающего свои непонятные молитвы тому, за всех, говорит, страдающему богу или сыну бога… так и не смог понять Сэдюк, кто же Исса, да и не в том дело – их предки тоже ведь хранят-боронят живых.
Сэдюк не поверил тому Иссе… да, не поверил… Они говорили много с Васано-феем – старик улыбнулся и опять полностью выговорил имя громкозвучного попа: «Варсонофей… Санофей… и в последний раз говорили; зачем приходил Санофей?.. нет, Сэдюк не Исса, тот взял на себя грехи людей… можно это? Не-ет, не надо брать… за свой поступок человек должен уметь сам ответить: голодного кусок мяса не спасет, его научить охотиться надо… а Исса на крест сам пошел – он что, хотел доказать людям, что подлость в них сильна, что зависть их червяками точит?.. Не верил Сэдюк, что любил человека тот Исса распятый – нельзя из любви зло будить… нельзя в страх своей смерти окунуть да еще причастным сделать, а потом добра ждать… усохнет добро в человеке, как рукавичка мокрая возле сильного огня – никуда не сгодится…
Замахал тогда на него отец Санофей, позлился, а не понял, почему худо Ивану, почему не винит купца Сэдюк… Сам Санофей хитрый: от него еще пахло горелым жиром, дымом которого, как заведено, окуривали тело Дюрунэ. И вещи, нужные старому Дюрунэ в дороге к миру мертвых, наверняка приготовлены… нож затупленный, ружье сломанное, посуду дырявую – чтобы здесь живой не позарился, а там Дюрунэ сам починит… не мешал обряжать мертвого поп-отче – знает, что легко добавят люди лишнего бога к прежним… даже старшим нетрудно признать Иссу – они там, в верхнем мире сами разберутся, кто старший… вот как люди, им как определиться?..
Уже засыпая, вспомнил старик другой вопрос Санофея-попа: „Чего ж ты тогда, Сэдюк, тайну уносишь?.. сами бы люди и распорядились, а ты их спасти хочешь… видишь!..“
Нехорошая, мутная мысль эта так и осталась в нем, а потом заставила под утро почувствовать землю, на которой лежал мешок, и сердце, в котором иглой шевельнулась тоска. И, ровно услышав ту боль, влез в шалаш Итик. Сэдюк понял, что еще прежде он слышал, как пес обежал шалаш, как унюхивал у входа запах хозяина, как осторожно шорохнулся полог. И теперь Итик торкнулся в бок старика, лежащего на спине, привалился рядом и больше не шевелился. Только учащенное дыхание показывало, что в поночевке есть еще одно живое существо.
Пришел, подтвердил себе старик. Боку тепло, но Сэдюк стал гнать от себя сон: „Ворожить надо… смотреть в глаза Итику надо… свечу достанем, смотреть будем“. Он выпростал руку из мешка и нашел ладонью голову собаки – спокойно, мол. Шерсть была влажная, старик повел рукой по телу Итика, сбивая мокреть и наледь на брюхе. У лопатки рука ощутила дрожь, а Итик вздернул голову. А-а, сукровь… Сэдюк вылез из мешка, обтер руку о штаны.
Он нашарил крышку короба, в котором сложен важный припас, и достал свечу, потом другую. Чиркнул спичкой. Итик смотрел на него, все так же лежа на боку у спальника. Старик наклонился к нему со свечой: понял – амикана взяли с Гарпанчой, это хорошо… потерпи еще маленько.
Зажег вторую свечу от первой, установил одну у входа, другую, усевшись на подогнутые ноги прямо на спальник лицом к собаке, приспособил обок себя. Итик сел, глянул на трепыхавшийся огонек у полога входного, потом перевел взгляд на хозяина. Красноватый язык свечи, что слева от сидящего Сэдюка, недвижным стоял в темных зрачках собаки. Старик чуть покачивался, прикрыв веками свои глаза, лицо его закаменело. Вот он обеими руками взял голову Итика, глаза его узко открылись: взгляд встретился с собачьим. В глазах Итика нельзя было увидеть страха, одно терпение да еще старание понять. „От Гарпанчи пошел… меня искал, – почти беззвучно шептал Сэдюк. – След нюхал берегом бежал… кончился… другой след… сидел… покажи гляди обратно думай…“ Еще шептал Сэдюк, и пес не отводил глаз, пока не поднялась губа над клыком и не заворочался в груди Итика рык. Устало отпустил старый голову собаки, упали на колени руки, закрылись глаза и обмякло лицо. Итик молча сунул морду в хозяйскую ногу, лег, подобрав под себя лапы.
Немного спустя Сэдюк встал, сгорбившись, достал трубку, выбил из нее пепел на ладонь. Потом, зажав чубук в зубах, пошарил в коробе, вытащил небольшой туес, обернутый тряпицей, Смешал жир с пеплом прямо на ладони, нашел еще в коробе какую-то труху травяную и грузно положил пятерню на короткую шею Итика, заставляя его лечь набок. „Ремея на след поставил!..“ Сэдюк смазал своей смесью терпеливый бок пса и погасил свечи.
4
Еремей проснулся, как от толчка. Над головой где-то в ветвях пролаял филин, но не от его крика толкнуло Еремея под сердце. По-прежнему медленно горели два толстых бревна, положенные по-таежному встык на кострище. Несколько раз за ночь их нужно было придвигать друг к другу. Еремей делал это, не выходя из сна, как не будило его и постреливание углей. Под густыми лапами могучей ели затаивалось тепло долгого костра, на многолетней подушке слежавшейся хвои было сухо и мягко. Прозелень ночного неба, очистившегося к вечеру от грузных облаков, сулила утренний мороз, но и не это беспокоило Еремея, что ему мороз…
Нехорошее предчувствие почему-то ворохнулось в груди, Еремей отнес его все же к филину: „Гавкает лешак над ухом…“ И перекрестился на всякий случай. И подумал еще, что все же надо было стрельнуть собаку. Он знал, что собака та Сэдюка. И бежала она к Сэдюку. Только по следам-то его, Еремея, по этому берегу, хотя знала, конечно, что старик давно переправился на другой, что ей надо на другой. Зачем же она бежала по его-то, по еремеевым следам?.. а ты зачем идешь по стариковым?.. ну, я не собака, знаю!
Пес этот тоже знал: как он глянул, ровно Еремей хозяина в кармане прячет или нарочно след его затоптал. Глянул пес, присел, рука Еремея в раздумьи потянулась за винтовкой… пес встретился глазами с человеческими… „пусть идет пока, наследит больше“, а пес уже спускается с крутого глинистого берега к реке, скользит на размякшей под первым случайным снегом почве и без остановки бросается в черную воду, в которой уже рябит первая звезда, еще не видная на небе… и это почему-то кажется Еремею колдунской наважиной больше, чем разумность в глазах лайки. Собаку сносит течением ниже, рука человека все еще ощущает тяжесть винтовки, а сам Еремей все переводит взгляд с темной движущейся воды на небо и облегченно вздыхает, лишь когда отыскивает-таки там, в быстро густеющей серости мигающую точку.
Собака уже выбралась на другом берегу, он видит ее спустя время бегущей в сторону, где, он знает, развел очаг Сэдюк.
Еремей отчего-то именно сейчас, проснувшись неурочно, понял, что старик знает о преследователе… а чего ты хотел? как не знает, здесь и знать нечего – так бы и отстал купец… „про-окля-атье!“ и все… ходи себе ходя, живи с миром и утаивай золотишко… ан, не крути паря, старый о тебе знает… вот чего сердце вещует, на тебя коловоротить начнет…
А с чего это Иван Кузьмич решил, что старый колдун к ручью пойдет?.. „Ты не думай: поводит-поводит, да и приведет, чует мое сердце… туда пойдет Сэдюк“, – так сказал купец. Они оба с ним знали, что, почитай, за смертью шел Еремей… за чьей только?.. не такой уж Сэдюк старый, чтобы от дряхлости помереть.
Еремей встряхнулся и подумал, что не будет пока перебираться на другой берег: днем еще далеко можно увидеть дым, а старик пока и не думает прятаться. Здесь лес коренной, а там в болоте след нехитро утерять… старик и сам по-над рекой идет, надо нагнать его… все равно ведает… и сна больше не придет, тягость одна. Еремей набил трубку и неторопливо попыхивал у огня, наблюдая, как светлеет чуть заметно полоска на востоке, и дожидаясь медленного рассвета. „Чай ли пока сварить?..“
Он возьмет свое, хоть всю зиму за стариком ходить придется. Может, то золото освободит, наконец, его… Еремей обхватил левой рукой правое запястье, привычно в одну-другую сторону покрутил кулаком, потом то же проделал с левой рукой… Бровин знает о следах кандалов… оттого и ноги стынут скорее, и Еремей даже в избе не снимает коротких чулок, сшитых из волчьей шкуры. Почти пять лет провел Еремей на Сахалине, прикрепленным к тачке, пока смог, наконец, сбежать… а теперь вот к купцу прикреплен, да не это в тягость: ссохлась душа от предрешенности судьбы-злодейки… сколь ни пытался Еремей, а не мог вырваться из круга, кем-то очерченного самим рождением… все выходило навыворот. Даже месть… и всегда кровью кончалось… он злился на мать, потому что она знала одно мужское имя – Вася, и Еремку смала тоже так называла – отцовским именем… и как все произошло Еремей никогда не узнал даже и у отца в тот последний день, когда раскроил ему, спящему спьяна, череп топором… От матери же узнать никогда не было возможности: она жила в подворье отца станичной дурочкой, а прибилась к станице в киргизских степях неизвестно откуда за год до Еремеева рождения… отец по бобыльему делу „опробовал“ блаженную бродяжку, а станичный круг отказал отцу в разрешении уехать из станицы, когда узналось, что красивая дурочка понесла… как и отказал круг вместе с попом признать новорожденного казаком, а потом отказал и в учебе в церковно-приходской трехлетке… подпаском, потом пастухом порешил круг быть Еремке… ну, в признании за незаконорожденным права на сословии отказали – это понятно: чтобы земли не выделять… а вот, что отцу так и не дали свободы уйти, то долголетняя насмешка да потеха была… это Еремей потом понял, когда в каторгу пошел… а страшнее всего было, когда на суде зачитали отцовское завещание, давно им составленное: все подворье, скот, кони и какие были деньги оставлял он на содержание матери-блаженной, а его называл сыном… и суд, как в издевку, признал завещание… а мать и его, запачканного отцовской кровью – Васей кликнула…