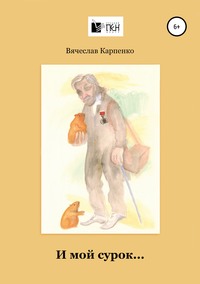Полная версия
Истинно мужская страсть
– Видишь? – шепчет Ухэлог. – Шайтана поселяет в них желтый камень, безумными делает… смелыми, учти, жестокими. Вот: вовсе больной, может сдохнет… а не выпустит. Проглотит, пусть хоть кишки завернет… попробуй вырви – в горло вцепится.
«Нет, – скрипит старик, приглядываясь к лежащему, словно клюнуть хочет или принюхивается, – этот не умрет, правильно лечишь, но помни…»
И теперь, и теперь как тогда замерло у Ивана Кузьмича сердце, желваком врос камушек в ладонь: «догадается… догадался колдун», что притворство одно, что вовсе не в беспамятстве и не судорогой сжался кулак. Сам Иван сразу наощупь, на́груз понял, какой это камень положил ему в ладонь старикашка… «узнал колдун не отдам хихикает отвратно пусть»: ехидно смеялся, а умирал ведь уже, но пусть попробует разжать пальцы, под ножом не разомкнет Иван… «сколько лет а такого и отец не находил место знают не будут тунгусы не злопамятны откуда ох за горло бы встряхнуть да сам помирает без толку это погоди годи»…
Говорил ему Ухэлог гаснущим голосом, и Сэдюк не прерывал, чтобы не тратить его силы, будет еще время самому думать. «Помрет теперь на слово жизнь тратится в меня дальше» – ухом к губам блеклым пониже клонился, как пил, а спокоен был, слушал: там и схоронит старика легкого, себя до слова изжившего, на ручье том, чтобы и дух потом его помогал Сэдюку хранить, как Ухэлогу другие, прежние.
Умер Ухэлог еще до утра, как уснул. Как ждал: пурга улеглась затихла. Только Большой Иван тоненько вскрикивал, прижимая к груди сведенный судорогой кулак, неудобно перекатываясь на этот огромный кулак всем телом. «Вот когда так и носит знал Ухэлог кому никого ведь не пускал других Иван сам вокруг старые оба некогда ему а я первый пойду» – пожалел вдруг Сэдюк своего гостя.
– Да, с тех самых… знал бы, небось не варил свои травы, а, Сэдюк? – оторвал взгляд от самородка Бровин. – Уморил бы…
Но тут же и замолчал – сам понял, что нечестно, что сфальшивил теперь, засмеялся: «шучу, друг, не так все» и суетливо спрятал золото за пазуху. С уходящим сожалением смотрел на него старик и насмешливо, но нахмурился: «ухожу, значит».
– Ладно, ладно… то далеко ушло… другое нынче, Сэдюк, нет мочи ждать… и наощупь плутать больше нет часу. Старые мы, что тебе в упрямстве… тяжело ведь людям! – сказал Бровин, будто не он это «тяжело» построил. – Своим во врагах уходишь…
– И после нас люди жить будут, Иван. Ты сделал, чего ж неспокоен? Ко мне пришел… Гарпанча не знает, не делай его тойоном… жени, – старик взглянул ему прямо в глаза, даже наклонился вперед, поближе. – Не для сына даже делаешь… уплывай домой.
– Разве не помогал вам? – попробовал еще Бровин обернуть разговор. «В который раз, – и бессильная злость словно подвздох ударила. – Довольно бы нанькаться с тунгусишкой, уморю». Но перевел дыхание, снова поднял голову к темной отдушине. – Прошло, Сэдюк, конец… как зиму переживешь?
– Ты для себя нам добро делал. Всё тебе отдавали.
– Каждый для себя живет, что мудрить, – устало бормотал купец. – И добро творит, чтобы самому хорошо было… или с ним так же поступали. Род твой… тебе самому покой нужен, совесть чистая, а?.. А чай твоим не нужен… и чтобы порох всегда был? Как иначе? Себя ведь ублажаешь…
Старик молчал. Они оба понимали, что разговор окончен, но и знали – последний разговор.
– Каждый сам ответит за свои дела, Иван. И ты не хуже меня ведаешь: взять да уйти… пусть огонь по земле, пусть кровь – все чужое. А нас мало…
– Я ведь тоже не под забором найден, Сэдюк. И за мной народ тоже… разный, да. Без меня уже не обойдешься, – Иван Кузьмич будто бы себя убеждал. – Кто хозяйство ладит, добывать умеет, суету в дело связывать?.. все купец. И не остановишь, не ты ведь первый и не я, так другие найдутся… земле стоять не дадут. Мудр ты, старый, а не поймешь, друже, что другое время сейчас… война идет…
– И такое видел, Иван: сына ведь не пожалеешь за тот камешек, – подумал тоскливо «пропадет Арапас… где понять девчонке люди не дадут забыть» – Не мне судить, Иван… маленьких людей легко не заметить, а ты ведь спокойно спать не будешь…
– Думаешь, эти годы спокойно спал?
– Не будешь… Не от меня, сам по себе. Спроси давай у Санофия, как по вашему богу тут быть? Жить мой народ имеет право? Как предки жили? – старик сощурился, выпуская дым, но Бровин уловил сомнение в его глазах.
– Не сможет уже… не надейся, да и сам понимаешь то: не во мне дело, что гонят тебя. А я тебя люблю, прости уж… – Бровин встал, языки огня взметнулись за ним вверх, тесно стало в чуме. Он наклонился и положил тяжелую руку на покатое плечо старика. – Не суди… за Катерину не болей.
– Мы с тобой, – закончил он визгливо, – в последний раз видимся, видно… Не торопись… к Ухэлогу! – «Пойдешь ведь туда и пойдешь знаю знаю куда тебе еще одному-то».
– Знаю тоже, Иван. Прощай, что ж…
Костерок затрещал за спиной Большого Ивана, согнувшегося на выходе в сырую серую ночь, но он больше не оглянулся: «к утру уйдет снег следы засыплет один совсем и собаки не видно». Он поскользнулся на липком снегу, однако сдержал рвущуюся из нутра матерщину, выдохнул и шагнул на мерцающий огонек в соседнем шалаше.
– Собирайтесь. И ты, Катерина с нами пойдешь. Так отец сказал.
А когда девушка тихо вышла вслед за снохой, Иван Кузьмич постоял, сгорбившись, и шагнул к шалашу: обеими руками легко обрушил шалаш на землю. «Нет ему назад дороги», – решил под покорный хруст невидимых шестов.
3
… – Она с нами поплывет? – женщина стряхивала снег с капюшона и в глазах ее с пульсирующим от свечного света зрачком стоял истинный вопрос: «ох, надоело… когда же кончится? домой быстрей… скажу теперь».
– Никуда не пойдем… зимовать готовься, – отвел Бровин свой взгляд, но повторил. – Остаемся. Катерину с собой поместишь… пока.
– Арапас? – переспросила Любава, медленно осознавая и еще не принимая смысла слов свекра. – Здесь… зде-с-сь?!
– Да, Арапэ… Катерину… так и так – остаемся, дела меня держат. Все. Поздно уже, – он нахмурился: «как знал не брать а ведь повязал бес Еремею сказать след пусть возьмет гос-споди мало греха на душе еще и это…» – свел брови. – Спать ложитесь.
Дочь Сэдюка сидела на лавке неподвижно, сложив маленькие смуглые руки на коленях, словно не ее имя произносилось. «Слушай Любовь, девушка», – тронул ее Большой Иван, и Арапэ встала на тихий оклик женщины – «иди за мной о боже да как же…» – и прошла за тяжелую занавеску, отделяющую каморку женщины от хозяйской комнаты. «Лампу возьмите», – задержал их на минуту голос купца, вставляющего стекло в зажженную уже керосинку, потом передал лампу снохе, и занавеска за ними опустилась.
Было слышно, как Большой Иван вышел, прикрыв за собой дверь, а светловолосая женщина поставила лампу на небольшой столик с зеркалом и, как была в дошке с отброшенным на спину капюшоном, рухнула всем телом на кровать и зарылась лицом в цветастую подушку. Рыдания ее казались Арапас неправдашними, она никогда не видела, чтобы плакали так откровенно и слышно. Девушка остановилась у косяка, опустив руки вдоль тела и чувствуя правой рукой жесткость занавеси, их двоих отгородившей. Смотрела она прямо перед собой на подергивающуюся полоску огня за выпуклым, чуть тронутым нагаром стеклом, и старалась не видеть подергивающейся в плаче спины.
«… Красивых детей родить можешь… нет, ты не уйдешь со мной… куда? – отец схватил ладонями ее лицо, склонился к волосам ее, вдыхая, глубоко вдыхая запах – так никогда не делал отец, даже подолгу пропадая на охоте и по возвращении, только вовсе маленькой помнит такую ласку Арапэ, когда умерла мать. – Ты с Гарпанчой останешься, за него замуж иди… Большой Иван вам поможет, знаю – да-а…»
– Он брат мне, – ответила ему Арапэ. – Как замуж… нет, брат он, – и решилась: – Почему ты не скажешь людям… не дашь Большому Ивану… разве не друг он, обманет разве?
– Все сделает, девушка… не надо тебе… кто разрешит чужое отдавать? Не все с земли отдать можно… и Гарпанче передай. Не брат он, приёмыш.
– Люди говорят – их земля… А мне?.. как?.. покажут на меня: вот дочь старого Сэдюка, он ушел в другой мир и… забрал с собой моего ребенка… как тогда? Ты болен, мне скажи… Гилгэ…
– Что поймет девушка, когда старики… – начал отец, а здесь вошел в чум Большой Иван с этой красивой женщиной… Лю-ба-ва… Почему она так плачет?.. Отец посмотрел когда уходили а Гарпанчи долго нет не знает он…
Слезы размыли предметы перед взглядом Арапас, она вдруг почувствовала цепкие горячие руки, шопот услышала в самые уши, щека увлажнилась от чужой влажной щеки: «Со мной ляжешь… ты вот здесь здесь со мной… ты очень красивая а мы поедем ко мне поедем там в Ачинске тебе хорошо… подружкой… я не хочу здесь я сюда за ним ну и что ж если лю-убила… а теперь – теперь…»
Любава уже сбросила, оказывается, дошку, оторвавшись от закаменевшей девушки, одной рукой сорвала одеяло с постели, другой же расстегивала на себе платье, спустив его с плечей и опустив, перетоптала нетерпеливо платье на полу и осталась в длинной рубахе, а потом стала теребить завязки на юбке Арапас, и девушка подчинялась, стараясь помочь и быстрей освободиться от непонятного порыва, но вслушиваясь в горячечный шопот: «все лето среди мужиков… согреешься ты вон какая… не дрожи мне самой страшно… грех а ты понравишься если вернется Кирилл… зачем я… не было у нас а ребенок… да ты не слушай дурь мою ложись спокойно Иван не даст… как можно здесь я скажу…» Она почти втолкнула Арапас в постель, непривычно мягкую, задула огонь и уже в темноте снова что-то шептала и плакала, пока девушка, вытянув все так же руки вдоль тела, молча лежала и видела языки костра и неподвижное лицо отца, сидящего на своём лежаке из шкур и глядящего ей вслед. Так они и заснули вместе, женщина прижималась к Арапас, и девушка уже во сне жалела ее – красивая, белая…
Вовсе ведь небольшое оконце, а сине-зеленый свет будто растворяет всю стену: холодно-светло в комнате от лунного пульсирующего сияния… Ворочается Иван Кузьмич, мозг его вроде бы и уплывает, но не в сон, как прямо-таки вымаливает тело, а в полусознаваемую дремоту: почти бредовую околесицу с разноцветными кругами, с отрывочными несвязицами видений и мыслей, с неожиданным уханьем куда-то вниз, в темень, в собственное опустошенное сердцебиение; и тем это до откровенности мучительней, что в осмысленности происходило, а избавиться, может даже встать и встряхнуться, сил не доставало. И он ворочается на двух составленных вместе приземисто-широких скамьях, отчего-то вдруг жестких и неудобных и жарких от подстеленного тулупа, и сжимает он бесполезно веки, и ловит кружение в голове, все надеясь уплыть с ним наконец-то в сон.
Полнолуние. Нехорошие предчувствия бередит оно. К чему бы?..
Тугой зеленоватый шар луны завис прямо в оконце, выходящем на юг, и не движется тот шар будто вовсе. В тишине, словно заледенённой этим светом, слышится порой кряхтенье старых бревен, из которых сложена фактория: вдруг колыхнет тишину короткий собачий взлай, гаснущий в вое-зевке; вот кто-то запустил было свистящую руладу храпа, но тут же и замолк, как захлебнулся. «Игнат стервец, – отмечает завистливая мысль Ивана Кузьмича, другая же: – Да повернись вот нет на другую… вдвоем они… считай уснешь сей… он подохнет а с собой… не дума-ат… вот отец… чей отец-то?.. причем… гос-споди-и». А мозг по-прежнему напряжен и недоверчив к этой зеленовато-бледной пульсирующей тишине, но и собраться не может. «Завесить бы…» – проплывает устойчивая мысль по свинцовому телу, а где-то еще поглубже той мысли – знание: ничего не поможет. Полнолуние.
Дневная же память перебирает свое, скользит и не дает голове успокоиться, сном укрыться.
… Ненужный, неспокойный разговор был с попом, не ко времени, разве потянул бы его, когда зимовать решилось? И еще с Любовью вот… ох ты, Любава. Он все выходил, чтобы перехватить Гарпанчу, ведь должен уже вернуться парень… что-то рассказывал ему Сэдюк, этот – как кричали тунгусишки?.. ах, дурной народишко – «ненормальный с украденной душой тойон», мальчишку-то принял сыном и воспитал, девку свою за Григория хотел старый. Чему еще мог учить… охоте, может, на свой путь ставил парня?.. кого ж еще. А-а, и Большой Иван, мол, не чужой для Гилгэ, так, – пробовал усмехнуться Бровин сложившейся наконец мысли.
И открыл глаза, потому что еще раньше, чем увидел, ноздрями втянул знакомый запах лаванды. Сноха уже сидела рядом, закрыв ладонями лицо, волосы ее беспорядочно сползли по спине и плечу и от ночного света казались медными на голубоватом полотне сорочки. «Все снохой называю Любаву-то», – скривился на себя некстати Иван Кузьмич, приподнялся на локте и засвистел ей в ухо, взглядывая в мерцающую прорубь окошка:
– Не время теперь, слышишь…
– Торчать здесь не время… не могу больше… я, я… я-а, – женщина ткнулась ему в плечо, роняя его назад на сбитую подушку. – Мы не можем… ты не можешь… еще и зиму, я дура, дура, понесла я, понимаешь…
«Господи… го-оссподи-и» – только и зудело в голове, пока нашептывалась бессмыслица в земляничный запах волос: «постой… постой же», пока неловко поднимался, укладывая на свое место женщину, стараясь утишить ее горячечный шепот широкой своей ладонью, уже влажной от нежданной и обильной влаги на щеках Любавы.
«Ах ты боже ж мой» – пришептывал, а сердце, всегда слабое перед женской слезой, ущемлялось беспомощной болью, опять, как и в тот раз, сливавшейся с неумолимой волной желания, греховного и постыдного, от которого был он вовсе незащищен своей повязанностью с Сэдюком, своей многолетней погоней за стариковой тайной. Забыл вовсе, что едва за пятьдесят ему и не бесполый это возраст, при котором ни к чему бы потакать невинному – так, так казалось, легко уговорилось! – но и приятному капризу снохи, пожелавшей весной поехать с ним к тунгусам, польстило даже: «не буду, мол, обузой, лучше вас обихожу, чем здесь от писаришек отмахиваться».
«Домаха-ались», – думал: такой же вот ночью… два уж месяца как?.. услышал и понял, что не во сне слышит всхлипы. Чего бы это, спрашивал себя, еще не стряхнув сна, а к сердцу уже подкатывала жаль. Он таил выдох, а всхлипы из каморки снохи не прекращались, и он отодвинул занавесь: – «Ты ли? Случилось что? – он и теперь слышит свой свистящий шепот, помнит лиловеющий мрак и дохнувшее на него душистое тепло. – Ты что это… не спишь, Любовь? Может, попьешь?..» Плач перешел в задавленное подушкой поскуливание, резанувшее его, судорогой скрюченное тело под одеялом ощутил, присаживаясь на край: «ну что ты, душа», услышал: – И не любил он меня, Кирилл твой! Кто я теперь… ни девка, ни баба, ни вдова-а, может его и в живых уж нет на войне той, – слово в слово помнил и теперь, даже мысли, ею пробужденные, помнил: – «Окстись, девка, грешно тебе так. Чем он плох с тобой был-то?» – А ничем и хорош ведь не бы-ил разве я квелая какая разве… разве батя с тобой твой-то отец так поступал?.. «Мой-то отец при чем», – он даже опешил от вопроса. – При том, – шептала невнятно в подушку, – что Кирилла своего женил пацаном что я ему… не хотел он и на войну сбежал из Томска чтобы не… а я два года-а. «Ну-у, – он коснулся пальцем плеча, – что отец со мной… знаешь… полно, мол».
… Отца Бровин редко вспоминал, да и поминил… случайность одну. Редко видел. Запомнил: огромный, всегда пахнущий остро, будто и не из бани только, случайными ночевками и потной дорогой пахнущий – был бесом обуян. То и запомнилось: «Велика земля, инда интересна! Увидеть хочу, там быть, где никто не может из людишек!» Запомнилось, запало. Еще приезд один, когда, колко на Ваню глянув, взял за руку в ответ на материнское «чему научится-то путём?» и отвел в реальное училище. «Доучи мальца. Этого хватит? По-честному? – положил камушек со свой желтый ноготь, подумал, оторвал четверть бумажки, свернул ее кульком и туда, как табак, сыпанул хорошую щепоть золотинок. – Хватит, мол. И кормить обедами… Доучи, а то…» Что «то», если исчез скоро, да и пропал навовсе, не было мальчику понятно – то ли угроза, то ли признание своей неспособности кормить регулярными обедами. «Доучу», – успокоил директор. Не по своей вине не доучил: кто ж виноват, что голосишком обделен, а говорить парню приходилось, вызывая смех однокашников, который кулаком не смажешь – за спиной тянется. Понял Иван, что в одиночку можно молчать, сколько угодно, и вспомнил щепоть, ссыпаемую в кулек. Так и ушел, хоть обуянности отцовской не ощущал в себе. «Что ж, отец…»
– Разве я квелая какая Кирилл два года с тобой вот… сюда, – вернула его сноха от памяти ненужной теперь, и зашлась опять слезами. Иван Кузьмич растерянной рукой нашарил волосы, погладил, пахнуло на него вот этим земляничным духом, а Любава повернулась, горячие мокрые губы ее коснулись мужской его грубой ладони, и он отдернул, вспомнив свои черные ногти. Села, опершись на подушку и подтягивая к шее одеяло. Лицо ее чуть светлело, зато глаза казались темными провалами, а сердце Бровина ухнуло: «Спят все… завтра поговорим». – И хорошо что спят батя ба-аатяя говорил что любишь девчонке таких соболей принес подруги ушептались да лошадку… «От сына дарил… от Кирки», – подтвердил шепотом, а безоглядный холод чего-то помимо жалости уже вползал в кровь. – Зачем… зачем себе не взял!.. ты вон какой, – хлюпанье вдруг перешло в журливый смех, одеяло сползло, а руки закинулись Бровину на шею, с нежданной силой заставили потерять равновесие и покачнуться заросшей шерстью грудью так, что ощутил колотящееся в его грубые ребра сердце, – не мо-огу больше так… живая же ж я. – «Я тебя ведь и люблю, Любавушка, – он попытался освободиться, опасаясь в неудобстве причинить боль и выравнивая вдруг задохнувшийся свой голос, – чем помочь тебе… не так…» – Так?.. так… так, – судорога прошла по ее телу, выгнувшемуся к нему, родила в нем озноб, давно неведомый, беспамятный, стыдный, преступный, – та-ак… ты ведь вот какой ты не состаришься я тебе… да-авай детей нарожа-ах-ем давай что-ж-ты-себя-забросил…
«Гос-споди, – думает теперь, покоя горячечные упреки женщины под широкой ладонью, – вот и…» – Постой же, постой, – причитает, уже озлясь, но и жалостью обмякая: «знал ведь, не брать бабу», – пойди до утра… утром… иди – подумаю…
И лежит потом, глядя на равнодушный провал оконца, ожидая того немногого, что осталось до утра: «ох ты-и дела вот как значит а что же я с Сэдюком… нет теперь как будет…»
И еще один человек в фактории не спит в эту лунную ночь. Но Иван Кузьмич не знает, что к ночи вышел отец Варсонофий и вернулся по их влажному следу к поваленному шалашу, а потом долго сидел с Сэдюком, допивая оставленную купцом водку.
– Итика нету, – качал головой старик, больше для себя говоря это. – Плохо без него… найдет, может?
– Худо тебе будет, – вздохнул хрипло попик.
Старик лишь глянул на него с усмешкой, которую русский принял за упрек себе.
– Иван ведь тоже не хотел, – ответил Сэдюк, – И ему худо.
Гость посмотрел на него удивленно: «Да?»
Глава третья
1
Утром старого Сэдюка уже не было в стойбище, отринувшем своего тойона и, в надежде на ублажение этим Большого Ивана, беспечно ожидающем во сне новый день, который продлит жизнь, даст и пищу.
Только одна сгорбленная ловкая фигура прошла на самом рассвете от фактории через стойбище, будя ленивый лай собак. За спиной Еремея висел короткий казачий карабин, к поясу петлей был прихвачен топор; старший приказчик, нисколько не скрываясь, прошел берегом вверх по реке, а час спустя уже остановился на притоптанном плесике и спокойно присел на корточки, раскуривая сладкий мягкий табак в короткой трубке. «На ту сторону пошел… ладно», – подумал без суеты. Неторопливый легкий снег грозил занести следы, но Еремей так и попыхивал дымом, вглядываясь в ровное серое пространство, уходящее к порозовевшему горизонту. Там к небу потянулась тоненькая ниточка: «Версты три… куда ему торопиться… костерок завел…» – он перенес к стволу корявой сосны заплечный мешок и устроился еще удобнее, опершись спиной на теплый ствол.
Иван Кузьмич знал, кто ушел из стойбища, но никак не мог ожидать того, кто в это утро появится…
Поначалу вернулся от тунгусов отец Варсонофий.
– Ты мне не мешай! – сходу встретил его Бровин.
Сидит купец все за тем же столом, беспорядочно заставленным вчерашней и свежей закуской, грязная посуда горкой сдвинута к краю. «Не рано ли с утра?» – кивает священик. Водочная четверть заметно тронута, и хозяин с хрустом заедает капустой только опрокинутый стакан. Лицо его немного побурело, и брови сошлись, но глаза трезвы и подернуты краснотой от бессоницы.
– Сапоги бы обтер чем… да садись уж, – он наливает, плеснув на столешницу, подвигает стакан священику. – выпей. И не говори мне ничего… нынче. Да и чем ты недовольствовать можешь? На что пенять мне?.. А хочешь, хочешь – вижу!..
Он оглядывается через плечо, куда смотрит Варсонофий. Девушка в углу сидит неподвижно, выпрямив спину и бездельно сжав коленями ладони. «Здесь жить станет Катерина», – роняет Иван Кузьмич.
– Остаемся мы, Варсонофий… дела у меня, – голос его поднимается до писка. – Зимовать ли будем…
Слышен вздох за занавесью: «О-ох!» «Зимовать», – повторяет купец и смотрит на тонколицего попика, который привычными пальцами расчесывает гущу волос, а взгляд его отчего-то тревожен Бровину, хоть и неподвижен и будто в себя обращен.
– Выпей же, – настаивает Иван Кузьмич.
– Говорил я с Сэдюком, Иван, – утерши губы тыльной стороной ладони и продышав горячую волну, тихонько рокочет попик.
– Ты закусывай пока… вечно ничего не жрешь! Пастве своей какой пример кажишь, – пытается его отвлечь Бровин.
– Оставь уж, – отмахивается тот, а по скулам растекается румянец. – Не пустили его к покойнику… «Не видели будто… и смотрели мимо, – думал про себя. – Таково… что скажешь – их закон, а после знак: пошел кто-то мимо старого, не глядя, и на тень наступил… так и двинулись остальные от чума – этой тропой, по тени Сэдюка, самого не видя… Уходить буду, говорил Сэдюк, не может среди своих с растоптанной тенью человек… больного, мол, гуся всей стаей бьют». – Да… по тени! По твоей, Иван, тени не ходили, не топтались еще?.. сам потопчешься… рассказал мне Сэдюк про ручей.
– Вот видишь, так и победил нехристя, отче! – опять шутил Бровин. – Что ты бы делал без меня?.. а, Санофей, если честно? Теперь они все к твоему богу прислонятся.
– Хитрый ты, Иван Кузьмич, а все – дурак, хоть ума не занимать стать. Смотри… как бы из кота самому мышью не обернуться… не победа то, купец… сам поймешь когда. Денег тебе мало? Чужие…
– Ладно предсказа-атель, – почти пропел Бровин. – Мало… кто тебя кормить будет… сглотнул?.. далеконько больно заехал мне… ма-арали начитывать: я тоже не из яичка, кажись, вылупленный – знаю, что делаю… при мне грехи мои, не ты ответчик! Деньги… с моими деньгами разве что у полового в трактире почтенье найдешь… а мне вон, – он неопределенно махнул ручищей. – А-а, что можешь ты, поп, в фарте знать!.. жизнь, считай, потратил. Не Сэдюку бы меня останавливать.
– Прав он, – раздумчиво, как для себя, говорит отец Варсонофий. «Ну, здесь не амвон тебе… пошел теперь», – бурчит купец, не прерывая впрочем. – Для рода своего прав и мудр, только не спасет уже… не один род по земле уходил от спасителей, дальше брюха не заглядывая!.. Забывается: не человек лишь ответчик перед всеми, но и все – за него… а легче ложь пустить, лица не разглядывая: ничто, мол, един пред всеми, и не дай Бог – не умнее уж. Так и в государстве: от рода знак один остается – «родина», за нее и голову… и несчетно голов положить, а она? Все тем знаком укроется, вот война-то мелет, думал? Брат на брата и каждый прав, мол, коли родина перед ним безответна… знаком тем свое брюхо прикрыть, другому посулить, а Сэдюка – в проклятые… и долго еще! Пока в обрат не научимся: и человецех… и кирпич единый в стене дворца разглядеть да услышать – не стенает ли… а нет – сколь ни мажь словесами, порушится дворец, ах, и расчудесный по картинке-то. Небось и ты совесть-то «интересом общим» подмазываешь?.. как же – всех человечеств любители-жалетели… под себя, а брата рядом – сомнешь и без сна не останешься…
– Ладно… говорить вот, сицилист ты прямо… тебе бы с моим Лужиным посидеть: он бомбы подкладывал да деньги в банках брал «для всего народа»… а потом раздаст их, деньги-то? – шиш! – по заграницам с тросточкой… – Иван Кузьмич засмеялся. – А я бы прииск закатал здесь, кому худо? Земля вон в забросе, а людей кормить должна? Это ты – перекати поле, а мы живем здесь. Шляешься ты чего по земле?
Замолчали. «Везет мне на бродяг, – хотел было сказать Бровин, а потом: – И сам ведь кто? Еремей знал, на что отправляю… Сэдюк или он, а надо бы и Игнашку с ним. Хотя и прав он… на двоих соблазна больше, а казак вернется, знаю… ежели жив будет… Ах, Люба-Любава, что ж нам… А распятием… зачем, – у отца Варсонофия даже затылок заломило: – …может, прав был Петр, отговаривающий… нравственно ли? – ведь смертью своей ко злу в людях обратился, помните, мол, мерзость свою… не к доброму в них… О!.. прост мя…»