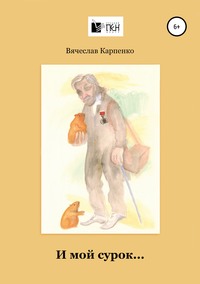Полная версия
Истинно мужская страсть
– Да косу расплети, гос-споди… как я… волосы-то промоем, такая уж бу-удешь!
Любава чуть отодвинулась и оглядела девушку сузившимися глазами: ее ведь Иван с детства знал… как не углядел?.. а не в его, видно, вкусе тунгусочка, грудка маленькая, торчит… заострилась, как у сучонки… и живот плоский. Она выпрямила спину, вновь привлекая к себе взгляд Арапэ, и томясь под этим взглядом от неосознанной мысли, лениво подбила полные свои груди ладонями, плотно повела по бокам, животу, бедрам – до округлых колен, сплетая пальцы, охватила колени и медленно закачалась взад-вперед, резким поворотом головы пытаясь отбросить осыпавшие лицо волосы. „А вдруг знает она… куда старик тот пошел… отец ее? где на золото дорога… это ведь Ивана держит?“
– Ложись-ка, ложись, Катя! Научу мыться, потом меня потрешь… Нравится, как мыло душисто?.. сама так пахнуть будешь, а то… как зверушка… во-от! повернись… эх, не мужик я!..
– Музик? о-ей… пцхи! – в глаза Арапэ попало мыло, она терла их, а ресницы слиплись от обильных слез. Любава зачерпнула воды: „подожди же, смывай!“ и сама ладонью омывала ей лицо. – Это твой музик пришла? Тебя ласкать станет… та-акую!
Девушка ушла из=под рук Любавы, села, плеснув себе сама в лицо воды, и смотрела, как красавица взбивает пахучую пену на мочалке. Уже понравившимся обеим движением руки коснулась Арапэ плеча, смело повела по боку обмягчевшими пальцами, коснулась широкого бедра, колена: „Бе-лый!.. бойе ласкать хорошо!“
И здесь растворилась дверь, холодный воздух клубом ввалился в помещение и медлительно поплыл к застывшим от неожиданности женщинам. Любава опустила взбитую мылом вихотку к бедрам, еще не понимая: или дверь отошла?.. Но Арапэ уже увидела: на пороге топтался Тонкуль, его прищуренные глаза пытались привыкнуть к рассеянному свету лампы с задрожавшим язычком пламени. Тонкуль был пьян. И удивлен: он не ожидал, что здесь, в этой „пане“ найдет женщин совсем голыми. От неожиданности он плотно хлопнул за собой дверью.
– Мне Лузин-насальника сиказал, – он зашепелявил и попытался увести свой взгляд от белой русской Любови Васильевны, но как раз и не мог этого сделать, – Сиказала насальник, цто Арапас паню мосса… говорить мой хотела.
– Ты куда залез, че-его выпялился… ме-ерзв-вец! – голос Любавы поднялся до визга, тунгус втянул голову в плечи и зачем-то стянул с головы платок, которым был повязан.
– Ты моя будешь, Арапэ, – быстро и возбужденно заговорил он по-тунгусски, найдя наконец девушку взглядом, под которым она съежилась, подтянула колени к лицу, голову прикрыла ладонями, даже ноги заслонила локтями, а упавшие волосы и вовсе почти скрыли Арапас от мужских глаз. – Бровин-купец Гарпанче тебя обещал, но наш род всегда брал жен от вашего рода… а Гришка, – он с удовольствием выговорил это русское имя приемыша Сэдюка, – приблудный и старики не дадут! Большой Иван уйдет, мне Лужин говорил, что мы и выгнать можем… а Гарпанча без старика кто? Я тебя кормить буду, у моего огня сядешь… вот!.. ухожу теперь – Большой Иван еще сам отдаст тебя!
Арапэ неожиданно подняла голову и лицо ее вдруг оказалось твердым, как у отца, и сэдюкова зеленая искра сверкнула в глазах, и голос звучал без смущения, ровно не обнаженная девушка говорила, а старуха на совете: „Ты! Ты знаешь, куница, как моя мать умерла? Твой дядя вот так же хотел ее, когда отец в лес ушел… я маленькая была, слышала… и голодать заставлял, а потом… ты такой же Калэ… и брюхо такое… никогда!“
Здесь русская швырнула мочалку прямо в лицо Тонкулю: „Уйди!..“ Соскочив с полка, Любава неожиданно ловко ухватила нахала за шиворот и толкнула парнем дверь. И здесь ей в мысли вошло имя, которое они повторяли – Сэдюк. Женщина, еще не отпуская Тонкуля и будто забыв о своей наготе, вытолкала его в предбанник и повернула к себе его круглое слезящееся лицо, шепча: „Твоя Катя будет… сама сделаю – узнай от старика, что от Ивана скрывал… узнай!“ И толкнула вон. „Мой сама тот хотели дела“. Но она уже вернулась к девушке, плотно притворив дверь. Камни на очаге зашипели чуть слышно, тепло из них уходило, хотя вода еще не остыла в огромном котле.
– Видишь, как горит по тебе тунгусишка! – обняла Любава девушку, все так же съежившуюся на полке. – Вот ты красива, да не про таких… а мне вот…
Она вдруг захлебнулась плачем, словно лишь сейчас поняла, что происходит здесь и вокруг: „Белая, говоришь?.. как же – ласкать станет, он меня и сначала-то ласкать не хотел… белее была… ох=оюшки! погоди немного… я уже и теперь-то себя толстой чую, бе-езобразной – разнесет меня… ненавижу себя, как квашня-а!.. А здесь еще и ему надо явиться, Кириллу… уж лучше бы… грех мой!.. да влюбился бы где там, в России…“
Поняла Арапэ сразу, видно в клетках женских сидит то понимание, пусть даже девушка и мужчины еще не познала, а голос материнства ведом, в крови течет: „Плакал радости твой надо! Мать… эне будет твой“. Так красиво, мол, раздвоишься потом, торопилась сказать Арапас, уже забыв дурной взгляд сородича, вот… смотри, какая грудь у тебя, кормить будешь сладко, дите сытым станет расти…
– Это тебе хорошо… ты вон… еще как кобылка необъезженная, – откинулась Любава, она глубоко вдохнула влажный воздух, сама удивляясь собственному желанию говорить, рассказать или поплакаться этой девушке, которая нарожает скоро здесь сопливых… „да, тунгусят-зверят, вон какой муж заявился!“ – И не иди замуж! И зачем мне-то все это… что ж я здесь ли рожать до-олжна-а!..
– Муж, спрашиваешь, пришел, ласкать будет? Ты, глупенькая, подумала, когда я от него понести могла, ежели только пришел? – она взглянула в удивленные, расширившиеся зрачки девушки. – То-то и оно… Муж мне Кирилл, да ребенок-то… отца…
– Твой? – со страхом спросила Арапас.
– Давай-ка, я еще тебе голову полью… вот! Дикая ты: Кириллова отца, Ивана… Большого, как вы зовете… два года без мужика, а грех не простят мне=е!
– Э-е, – неожиданно легко рассмеялась девушка. – Большой Иван право имел твой дети делал… твой жена ему быть, коли сын помирали!
– У нас не так… да жив же муж-то, дура! Сколько мы с ним ни спали… ничего… А от Ивана сразу понесла. Мне мужа и ласкать отродясь не… зато – о-хх!.. Ну вот: я же знала, что пойдет тебе платье… кра-аса, самый цвет твой зеленый… да куда ж ты свои штаны-то под него!
– Не любит твой музик? Живи который любить, – сказала спокойно девушка и прикрыла вдруг глаза. – Нет, однако… парень твой грустный… от него вся кожа теплом ходит…
3
Всего ждал Иван Кузьмич, только не этого спокойствия сына. Он вслушивался в хрипловатое молчание Кирилла и торопливо пытался пробить это спокойствие, придумывая и давнее влечение свое к Любаве, и долгое обхаживание, которому противилась женщина, пока не застал врасплох ночью… Да что ж это я, думал Бровин, боль-то ему учиняю… сказал, что понесла и стой уже. Но его несло так, что и сам начинал верить в придуманное, и не виниться – чуть не жаловаться заехал, будто не сын уже сидит здесь, а приятель близкий…
– Не надо… не мучайся, отец, – произнес Кирилл, и Бровина кольнуло его равнодушие. – Пожалуй, я и рад такому… повороту… а что?.. ты столько по тайге прожил – у них, кажется, и вовсе нормально… я ведь все равно, что умер, у нас и детей быть с Любой не могло.
Не надо бы… и не хотел, а подцепил его тунгусской жизнью, а ведь тебе и в самом деле не нужна она была… и ревности вот нет!.. а кольнуть… Что ему рассказывать? Все далеко отсюда и непонятно… Лужин вон все о революции грезит, а солдатам умирать вот как надоело… волками на тебя, будто ты ее затеял… нахлебался той офицерской чести полную грудь… ох, и взорвется все скоро, а он здесь тунгусов ощипывает… Что причитать и винить: сам ведь пошел, добровольно… из патриотизма! Один старик великий умел увидеть и крикнуть всем, что рабство это – патриотизм, из которого дозволяется и в достоинство возводится других унижение. Рабство, рабство… прав Лев Николаевич граф Толстой… оттого и лезем из кожи: поляки взбунтуются – патриотов кличем, на японской тоже героев погубили тысячами несчитанными… тунгусов вот благодетельствуем ясаком, а подними они голову – патриотов кликнем… и добровольцы ведь толпами!.. Кавказ вон чуть не сорок лет всем миром „замиряли“, историю патриотическую писали… кх-хр… вот и теперь: патриоты с патриотами газом друг друга душат… германца ведь тоже обязательно с оркестром на фронт провожают… банты на грудь… Patria – отчая земля, отечество, на земле жить бы…
– А ты патриот, отец? – неожиданно спросил вдруг Кирилл и рассмеялся. – Да нет, я не сомневаюсь, ты ведь на войну не одним мной жертвовал… ну, прости, сам я, сам… и деньги ведь давал, так что все в порядке… А ведь по России сухой закон, знаешь?
– Здесь не Россия – Сибирь! Мое дело купеческое… – Бровин-старший выпил и встал во весь рост, нависая над сыном. – Холодная у тебя кровь, Кирка… ты не гне… м-гм… не расстраивайся уж, только я бы… вылечим мы тебя!.. вот дождусь одного тут… хотя и в Италию, слышал такую, отвезу… души на нас не держи!.. Пойдем-ко.
– Уж вы без меня, отдохну. А лучше… схожу-ка я к тунгусу тому, что нам по дороге попался, раненый… Как он? Медведя ведь – один…
– А сходи, верно, – готовно ухватился Бровин. – Григорьем крещен, оклемается… а ты сходи, я тебе и провожатого дам… А насчет медведя, – Иван Кузьмич засмеялся снисходительно, – так это здесь и Арапас может, крестница.
– Сам найду… Катя эта? Зверя? – но за шутку принял.
Сын накинул было свою бекешу, но Бровин забрал ее и набросил на прямые плечи Кирилла черно-серебряную собачью дошку, ниже колен пришлась. „Тяжеловата малость, но как печка“, – он придержал ладонями плечи сына, сердце защемила тоска. Вот хлопнула негромко дверь за Кириллом, впустив на секунду протяжный собачий лай.
– Скушно! Ох и скушно мне-е… – протянул Иван Кузьмич и пошел к людям. „Закатить бы куда… подале. Дак стар, видно…“
– …Все, – угрюмо пробасил о. Варсонофий, увидев его. – Инженера твоего я уложил, отбуянил он языком своим… чего, а слов у него довольно – Satis verborum, видишь… помнится еще!
– И ты еще с латынью… а они? – он кивнул на занавесь.
– И бабоньки наши спать легли-поместились… – попик оглянулся на другую комнату и совсем притушил голос, – сама с Кириллой Иванычем говорить придет… упарилась немного.
– Ни к чему ей, пусть… говорено уж! – прозвонил Бровин и вновь понизил голос. – А вот я к тебе, отче благородный, по… твоей части поговорить хотел бы… у тебя лучше.
Они перешли в попову каморку, где держался застойный и сложный дух хвойника, звериного запаха шерсти, сапожного дегтя и лампадного масла со свечным нагаром. Окна в каморке не было, воздух проникал сюда в прорубь бревна под самым потолочным накатом, но и эта прорубь была нынче заткнута комом мха с шерстью. Сумрачно было здесь. Мрак не рассеивал голубовато-желтый огонек у икон в углу. Светилось лишь тонкое молодое лицо богоматери, чуть склоненное долу, где должен бы быть младенец. Но святого младенца на иконе не было, а чуть ниже зато справа проглядывали серьезные глаза Спаса, слева отрешенно голубело пятно – там, Бровин знал, помещалась Троица.
Он перекрестился: „У тебя, отче, свечей недостало ли?“ Но о. Варсанофий уже зажег толстую свечу в „летучей мыши“ и не стал закрывать в ней закопченное стекло. „Еще! – попросил Иван Кузьмич. – Будто на крещенский мороз закрылся!“ Он кивнул на комок затычки над сводом. Хозяин покосился и внось чиркнул спичкой.
– Берлога прямо, – тоненько, будто жалуясь, отметил купец и сел на лавку. Вдоль другой стены шли полати в три широкие толстые доски, они упирались в бок печи, которая топилась в кухне. По полатям выстлана упругая подстилка из пихтовых лап, накрытых стеганным одеялом, давно подаренным купцом и потертым, а сверху наброшено одеяло из мягких оленьих шкур, сшитое нынче женщинами стойбища. – Исповедаться тебе хочу, Варсонофий…
Но здесь же поднял руку – „молчи, мол“ – взвизгнула, а затем хлопнула дверь. „Не пошел, значит… просто избавиться захотел… Ох-ти мне, господи!..“
– Это Кирила Иваныч? Куда собрался-то ночью?
– К Гарпанче. Да знал, что не пойдет… так прими мои грехи…
Будто и сам не знаешь, думал Иван Кузьмич, и вино не берет, скучно душе! Или в тайгу уйти… к Сэдюку бы! Да что можно назад повернуть… вот и Любава, ей-то… И все недодумываешь…
– Возьму и я грех на душу, – дошли до него слова попа. – Не стану нынче тебя слушать… о другом давай, не готов я…
– Все не додумываешь… сумятно одному концы с концами сводить, затем и нужен ты!
– Не готов я. Думаешь, просто: слушай, мол… ты в себе дергаешься, отклика найти не умеешь… что исповедь? С моей помощью к Богу в себе обращение… Вот – Троица святая, молишься, крест кладешь, а что есть? Все в нас: Бог-отец – память твоя, Бог-сын – разум твой, Дух святый – воля твоя… не соединишь воедино – себя умертвишь, а ответствовать придется в душе, как ни вертись лукаво… сожжет ведь?.. Вон, мне инженер твой нынче наговорил… обман, мол, к рабству располагающий – под корень, мол… и благоденствие наступит, у всех глаза откроются и брат обнимет брата, думается, во труде праведном… да было уже, а человек не… клавиша, чтоб нажать и своим голосом пискнула… много голосов; а рабство разве законом устранишь – с оного, мол, дня?.. лишь рабов ослами сделаешь, сена от хозяина жаждущими да меж двух стогов с голоду дохнущих… Вера – желание гармонии триединства в себе есть. За нее в себе бороться, себя образовать надо… в мире и с миром, а не отрицанием сущего, в коем память не мало значит.
Помолчи пока, это ведь я и о себе говорю… терпения в нас недостало – иных слушать. Есть церковь, есть и Бог – вон выйди теперь, небо над тобою бездонно и беспредельно, но и без взгляда да мысли твоей, кто его с землей соединит? – церьковь, говорю и Бог – не обязательно слиянно, ибо первая лишь инструмент, секстан, знаешь?.. которым путь лишь подправить или поверить можно, сам же путь един человек выбрать может… к себе путь тот… да истинность себя определить сложно, да – майся и мечись, только за чей счет все?.. Кто же ты: потребитель благ, другими содеянных или – даритель?.. непросто выбрать, ибо и дарить чтобы – иметь надо… хоть мысль свою, отличную от… И здесь – гармонии… вот не готов я нынче тебя облегчить пониманием: грех разделить потребно состраданием… со-частьем, а во мне самом смуты да сомнений… Да и негоже, Иван… разит перегаром, где уж до чистого разума – по стихие своей пришел ныне… зельем возбужденный… завтра меня же и врагом усмотришь – в новый грех себе. Пойдем-ка на воздух… оба теперь, задохнемся вот здесь…
Они вышли, стараясь не шуметь.
Однако Кирилл все еще лежал в темноте с открытыми глазами: „Мается… как судьба распорядилась, что вот эта глыба с голоском котёнка – отец?..“ Он застонал: из нутра к горлу опять накатил ком, несущий с собой запах, от которого рождался ужас. „И здесь… У! оу-ых!..“ „Бойойе… – услышал он вдруг и почувствовал, как на лоб его легла легкая рука. – Тёплый бойе!..“ Кирилл повел рукой к голове, потом в сторону, но никого не было. Он сел на постели, протянул руки по сторонам… здесь явно никого не было. Внезапно тоненько засвирбело в углу. „Сверчок-то здесь откуда?..“ Он лег и вытянулся, прислушиваясь, ощущение запаха ушло из него. „Спа-ать!“
Однако наплывший было сон в клочья изорвался накатившимся кашлем. Кирилл двинул головой подушку, она медленно вывалилась на пол. И опять он ощутил руку, только это оказалось иное ощущение: женская ладонь подсунулась под затылок, притишенный голос не оставлял сомнений: „Выпей…“ У губ своих – „видит она что ли в темени такой?..“ – он почувствовал кромку кружки и, медленно приподнявшись, опираясь затылком на руку, он глотнул теплый медвяно-горьковатый отвар. „Держи и потихоньку… до конца. Легче станет…“
– Ты? Люб…а, – он усмехнулся, потому что чуть не повеличал ее отчеством. – Больше… никого не было?
– Кто может? Отец… – она запнулась, – Иван Кузьмич… они с попом засумерничались.
И вдруг лоб ее упал на его руку, опирающуюся на край постели, Кирилл узнал шелковистость волос, рассыпавшихся с головы, плечи ее вздрагивали сухим рыданием, но памятный земляничный запах, исходивший от них, отчего-то вернул ощущение того, другого… Он сел и колени его коснулись ее подрагивающего теплого плеча.
– Прости… Христом-богом… закли… прости, – шептала Любава, не давая ему высвободить руку. – Мне жаль… но я сама… сама… Ты ведь даже во сне меня не видел… и там!..
– Не видел, – подтвердил он. – Во сне я там… больше слышал… как пушки ухают да люди стонут… и страх свой, признаюсь, слушал… тебя ни разу… зачем?.. и теперь… коня вижу, пена у него на губах пузырится… а ни встать… ни заржать напоследок… коням противогазы не дают, а ведь… они-то вовсе ни при чем!..
– Пожалей… прости… нас. Ведь родить мне…
– Гос-споди, да… – ему вдруг захотелось спросить, брата или сестричку думают ему… но осекся, придержал себя. – Что я-то…
– Озлобился ты… на себя не похож. Ты же в Москве в госпитале?.. – она подняла голову. Кирилл попытался увидеть ее лицо, которое, видно, поднято было к нему, и не смог. – Почему не остался… там доктора и… веселее…
– Веселее, точно… – ему вспомнилось угарное отчаянье ресторанов, утомительное внимание, за которым чудились страх и брезгливость к его кашлю. – Там? Выхаркивать, прости уж, легкие на чьи-то колени? Уволь…
– А… были, значит, колени?!
Он засмеялся: все правильно. И закашлялся. „Пей… пей же“. – Ну, что я могу, Люба-а? Виноватым себя признать?.. Нет у меня на тебя ни зла… ни… сил… знаешь ведь. Пусть так и будет… сюда вот…
– А сюда зачем? – успокоенное сочувствие прозвучало теперь в ее голосе. – Тяжело ведь… потом обратно…
– Не знаю, право… захотелось! Но не в укор… вам, нет. И успокойся, я не помню тебя… никак. Давай спать? Доброй…
Она наклонилась и Кирилл ощутил на руке поцелуй сухих губ. Опять застрекотал сверчок: и он прикрыл глаза: „Бо-ойе“ – услышалось Кириллу в этом стрекотанье.
– …Ты вот, считай, в тайге по-хорошему ни разу не был, Варсонофий… – шептал, подняв лицо, Бровин. – А живешь ведь…
– Мне в ваших душах блуждать достало, – шуточно ли, серьезно ответил попик, его лицо тонко голубело от блестящего хаоса звездной реки.
– Вот часом Любовь мне… ваша Васильевна морок прикинула, – заговорил вдруг о. Варсонофий негромко. – Слово сказала: не любил, мол…
– Ну, ты вон какой… писаный! Как без любви, – откликнулся Иван Кузьмич. – Захоти – льнули, небось, бабы… исповедаться-то!
– Не то… и так было, как прыщи семинарские. А только блажь – не жертва… какая любовь без нее… тебя тот ручей Сэдюков многого лишил… и лишает, а это страсть лишь… да!.. Я ведь монашествующий священник… безбрачием плоть пересилить хотел – дух укрепить… гордыня: мое продолжение во мне, мол, через себя к вечному духу… и ересь индусская… а только не пронес Бог мимо: встретил я ее, любовь, на бродяжьей дороге… такоже монашенка она, Глафира… из Киева в Новогород шли, она с кружкой ходила – на раненых сбирала. Кружка и сгубила…
Замолчал и забыл про Ивана, засопевшего рядом о чем-то своем… Взял котомку у нее… не так и тяжела… Лето красное, иди себе, травами дыши, пчелиным гудом да птичьими пересвистами… инженер вон пристал: то читал, это… читал? Библию читал, ну, даже – и ничего кроме… зачем?.. думает, человеком одно чтение делает… хоть и страдание кого на добро безоглядное другого на месть к чужому вовсе… натомила ли их тогда с Глашей дорога?.. отдали сироту в монастырь, постриглись… а невестой не Христу, мне стала, как до озера добрели, так и стала… избушка у озера рыбацкая, нежилая, а сено вокруг чуть прижухлое, свежее, и луна вполовине улыбчивая по воде-бирюзе желтизной тенит и лягушки глушат-заливаются… „мне б помыться в воде, только жуть берет… ты закроешь глаза и проводишь ли?“… а потом, потом… „что ж не глянешь ты, аль уродина!“ – и хохочет… избыли монашество… души жаворонками в самую высь вплелись неразрывно… грех ли – найденность. Шесть дней и ночей и летать бы… уйти сокрыться велика ведь страна Русь а прикованы вот… к долгу ли назначению придуманному власти нет над судьбой „только кружку верну, не моя… солдатикам раненным“… отдала, да не выпустили… через три месяца как узнал… как узнал, что от воды с хлебом взаперти на „арену военных действий… да, да, в Маньчжурию… да – сестрой милосердия“… так туда… гос-споди, полковым священником… еще и креста удостоился… и не знать бы, да узнал ведь: в плен госпиталем попала Глаша не ушла от солдатиков раненных а они выздоравливали а они озверели от бездельной силы от безсмыслия ли безмыслия рабского и в грязи утоптали „сестричку“ не японцы свои наиздевались скопом и бросили… тех потом тиф прибрал – вымерли… поругание естества наказуемо и на земли… хоть не увидел больше и неживой не знал и то благо…
– Рассказать-то хотел? – спросил Бровин.
– Рассказать? Я тебе байку про попадью расскажу… веселую! Это… был Иван, а женка у него в то время была поносная. Вот Иван в работу ушел, а здесь и поп случился: „Все бы хорошо, Марьюшка, что поносная, да вот плохо – недоделал Иван, рук-ног нету“. „Что же делать, батюшка?“ – „Да, – говорит, – давай я доделаю… только даром не стану: тулупик хоросый да десять рублев“. Вот ладно-хорошо, принесла Марья, он ее повалил да откатал, теперь, мол, все доделано. Вскоре и разродилась мальцонкой, справным знацит. Иван как раз пришел. Банька там, все, она его и попрекни: что ж, мол, делал-делал, да не доделал, хорошо – батюшка доделал, десять рублей с тулупом отдала… Почесал Иван в затылке, что теперь… а крестить надо: поехал за попом, тот ничего, собрался. Иван купель-то в сенях и забудь. Приехали, как крестить-то!.. купель забыл. „Поеду, батюшка, что ж, заодно матушку в божатки позову“. „А и позови-и“, – поп согласился. Ну, вот, хорошо-ладно, приехал Иван, попадью кличет: пойдем, матушка, в божатки. Она, конечно, согласна: „Оболокусь только“. Ушла в другую комнату, а кольца-серьги на окне оставила. Иван и спрячь все. Вернулась, оболокомшись, глядь-поглядь, нет. „Чего ищешь-то, матка?“ „А серьги-бусы куда запропастились, не видел ли где?“ – „Да в…видел, на коленях держала, можь провалились?“ „А ты б подоставал…“ А достать не худо, только даром не буду, отвечает Иван, давай сто рублев денег да тулуп справный. Вот хорошо, сговорились, он ее на лавку да и отшатал, раз-два – бусы вытащил, дальше – и серьги с кольцами нашлись. Понравилось попадье. Вот едут обратно, купель везут, пападья и вспомни: „Мы вот с батюшкой как-то с ярманки ехали, так я сковороду куда дела… как провалилась. Так подоставал бы, Ваня?“ Он ее в санях и расположил, долбил-долбил знатно, пока не уморились. „Моци нет, пласью лежит, матушка…“ Приехали, конечно, крестили, как надо младенца-то, вина выпили, попадья с хмелю и упрекат: „Вот не можешь сковороду достать, так я Ивана просила… он мне уж за сто рублей денег да тулуп серьги с кольцами да бусы подоставал“. Поп молчком шапку сгреб и бежать, а попадья все за ним… все попрекат!
– Чудным языком говоришь… чо ёрничаешь-то?..
– В деревне моей так… тяжело жить людям, а… забавляются вот.
– Чудно… Ха-ха-хо-е! – зазвонил вдруг смехом Иван Кузьмич. – Охти, так, говорит: „пласью лежит и мочи нет“?! Их! – и вдруг оборвал смех, тишина обозначилась вовсе ночная. – Ты чего это, а, Варсонофий?.. А – монашенка твоя… Глафира?
– Умерла она… там, – вдруг вызверился всем своим басом, лоцо сделалось узким: – Не тро-ож-жь? О-гх…
Молчали. Бровин положил тяжелую руку на плечи попику: „И так вот ни к чему… Красива была?.. один ты, нельзя?“
– Ты Еремея притравил… Сэдюку ли к твоей выгоде жизнь отдать… На дочку его, на тунгусочку схожа, глаза синие…
– И тебе глянулась? – он сказал, только бы не молчать, но закончил уже про себя: „Что в обрат повернешь… сам бы теперь пошел… куда?.. бросить и в тайгу… не уйдешь!“ – он сунул руку за пазуху, нащупал самородок, повторил: – Не уйдешь!
– И снова ты дурак, Большой Иван… душа в ней женская… в них всех… богоматерь жива, да не даем… холуйством своим обозлены. У Еремея мать…
– Мать его у хороших людей пристроена. Там, в станице, родственники ли… они ее кормят, не пускают – Васю своего все искать ходила… я узнавал как, им деньги за то идут… и дом ее. А… может и прибрал Бог, без маяты… Втопоры он совсем малек был… знаю, скажешь, кровь обходится… И довольно! Посумерничали мы с тобой… наизнанку!
Глава пятая
1
Туман держался над болотом второй день. Еремею все же пришлось перебраться на этот берег: уходил от него Сэдюк. Сколько ходили, пятые сутки… шестые уже?.. Уводил старик и непонятно становилось, своим путем идет или Еремея водит, а что знает о преследователе, так наверное – что знать, оба, считай, и не таились друг друга.
Здесь было худо, деревья уже не могли укрыть на ночь, и Еремей завистливо отмечал след сэдюковых нарт – все при нем, и дом, и еда. Мешок же приказчика худел, он грыз сухари, дожидаясь утра у нежаркого костра и дымил табаком. Одна бы утеха, клюквы здесь в достатке, но она нынешняя и не тронута морозом, от малой горсти сводило рот. „Кто кого заходит, получается. Так и годами можно, жизнь тягучая, – усмехался Еремей. – А толку?“ Толку не виделось, а здесь еще и туман, по которому ему и подниматься нельзя думать, конец пути мог оказаться вовсе близко, и Еремей вообще удивлялся, что старику давно бы не завести куда своего преследователя… нет, стрелять человека не станет Сэдюк, но закружить… вот и туман наслал – Еремей усмехнулся: слабости своей человек всегда на стороне причину ищет…