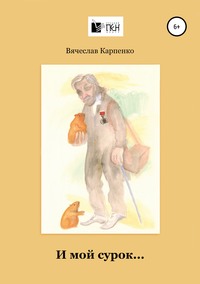Полная версия
Истинно мужская страсть
4
«Вот так, Сэдюк, – думал Иван Кузьмич. – Вот как повернулось… что же теперь? Уходить теперь, а куда пойдешь?.. поговорим…»
Они еще не дошли до знакомого купцу чума, в котором он бывал не единожды и не только в это лето, как повалил липкий снег, крупными набухшими хлопьями он тяжко опадал на землю.
– Ну, вот и дождались! Ну, не зима еще – зазимье… а все гудок, – Бровин провел ладонью по бороде, сразу замокревшей. – Давай заходи, Любава. Теперь уж вовсе некогда нам здесь… сгинет старый.
– По мне так… – она сказала это тихо и не стала продолжать, но он и так понял, хоть и промолчал. «Домой ишь… зря-а…» – думал.
Откинув полог, он пропустил сноху вперед, потом, чуть не вдвое согнувшись, зашел сам. Женщина придержала дыхание, потом осторожно выдохнула и вздохнула свободнее – здесь пахло хвоей, какими-то травами, смоляным дымом и лишь едва ощущался кисловатый запах сырой кожи.
Глазам еще надо привыкнуть к сумраку; колеблющиеся тени от языков пламени из-под котла в центре жилья пробегают по лицу старика, сидящего на постели, покрытой оленьими шкурами. Постель немного возвышается над очагом, и старик сидит на ней с поджатыми ногами, плечи его выпрямлены, а сухие руки с длинными пальцами лежат на коленях. Лицо у старика удлиненное, высокий лоб круто навис над темными глазницами, узкая серая борода кажется металлической. Он не лыс, но волосы стрижены совсем коротко и тоже отдают металлом. Лицо же кажется вырезанным из дерева, давно вырезанным и потемневшим, а все же – хорошее лицо. Оно оживает, едва становятся видны круглые глаза, зеленоватые и очень даже живые, хотя и выдающие усталость. Или что-то еще, – грусть, боль?..
Становится светлее, потому что дочь старика поставила на пенек у очага свечу. Пришедшая женщина одним взглядом сразу оценивает прямо сказочную, диковинную и диковатую красу Арапэ; ревности эта яркость в ней не вызывает, как бывает это часто у привыкших нравится, совсем другое все в этой девушке: и продолговатое, как у отца, но гладкое горячесмуглое лицо, и чуть скошенные к вискам зелено-серые глаза, и тяжелая коса, лежащая на замшевом нагруднике, едва приподнятом на груди; высокие ноги не может скрыть грубая юбка, падающая до тонких щиколоток; и при всей вроде бы подростковой угловатости тонкой фигуры – эта округлость во всем, в движениях тоже, отмечающих истинную, природой данную, изначальную женственность, которая и силой не обделена, только иной, без грубости и натуги, присущей силе мужской.
«Прямо чудесна! – восхищается про себя Любава, она может себе это позволить без выискивающей пороки зависти, так свойственной женщине обделенной. – А губы эти… надо же, пухлые, наивные еще, а не дай бог!.. Краса». Знала она, что уж там, время красоте девичьей, а здесь все обещалось сохраниться надолго. «Как же теперь-то… – спохватилась Любава, она понимала, что в судьбе этих людей что-то опасно менялось; вчерашние крики инородцев она равнодушно относила к сумятице низкой, как к грызне собак у порога, жизни чужой и не интересной, а теперь вот связывалось с лицами во плоти; и в красоте девушки усмотрела женщина ту растерянность и незащищенность цветка, на который неминуемо надвигается тележное колесо. – Что-то там старик должен Ивану Кузьмичу… или гонят их… куда?.. милая ведь девочка, а кому-то из этих тунгусов достанется… живи, с кем попало, рожай!»
Увлеченная девушкой и своими мыслями, Любава пропустила слова купца, который уже устроился на другом чурбаке и забрал из рук ее корзинку. Старик чуть кивнул ей, поймав ее взгляд и что-то поняв в нем, легонько положил коричневую свою кисть рядом с собой, приглашая присесть. Но она не села, только близко подошла к Большому Ивану, глыбой устроившемуся у огня, и смотрела, как тот достает из корзинки засургученную бутылку, яркую плитку китайского чая, пачку табака, как, задержав лишь на мгновение руку, достал брезентовый мешок с дробью, банку с порохом – бросил на шкуру рядом с Сэдюком, который лишь покосился на подарки, но ничем не выказал своего к ним отношения.
– Ты, Любовь Васильевна, пойди с Катей… обзнакомьтесь ближе, придется еще, – он обернулся и вернул корзину снохе. – Подари ей что там… конфетами побалуйтесь.
Девушка между тем тихонько поставила чашки на круглый низкий столик между мужами, положила поближе к старику темную трубку с длинным прямым мундштуком, подставила на камень к огню закопченный медный чайник. Подложила несколько сухих полешков, и огонь осветил лица, блики выхватили темное длинноствольное ружье на стенке, несколько ременных арканов рядом с ним, плетенную мордушку – корзину для ловли рыбы, небрежно прислонившегося к стенке божка, с длинным, как у хозяина чума, лицом, и плоским носом над узкими злыми губами. Но Иван Кузьмич смотрел в глаза старого Сэдюка, ничто больше его здесь не привлекало, даже связки беличьих и горностаевых шкур, даже кожанный мешок, в котором, он знал, наверняка собраны соболя, и хорошие – товар у охотников этого чума он мог бы принимать не глядя.
Сэдюк сказал дочери несколько слов, потом тихонько махнул рукой. Арапас потупилась, а Бровин обхватил ее ручищей за талию и на секунду ласково прижал к себе.
– Ты не чурайся, Катюша, не дичись – она добрая, Любовь наша, хоть и красивая. Крестный тебя в обиду не даст!.. что бы ни было… – он осторожно подтолкнул девушку к выходу и сказал уже снохе, ничуть не убавляя голоса. – По-русски она понимает, только дичится, разговори ее – ей теперь непросто будет жить. Но мы еще свадьбу ей справим, учти, друг… Да, что-то Гарпанчу не вижу, далеко ли он?
Последний вопрос обращался к старику, но остался без ответа.
Женщины тихонько вышли. Бровин ткнул пальцем в отдушину на верху, куда уходил негустой дым. Туда влетали разбухшие снежинки, собирались каплями по кромке и уже стекали тоненьким ручейком попологу.
– Вот и мухи полетели белые, Сэдюк, – и перешел на тунгусский. Говорил он свободно, слов не подыскивая – знал давно. – Так где приемыш твой? Еще не знает он… Неуж в тайге?
– Он охотник, Иван. Медведя пошел взять, людям мясо надо. Немного у нас оленей, чем кочевать?
– И тех могу забрать, – жестко сказал Бровин.
– Можешь. А кормить людей надо, знаешь ведь…
– Знаю. Вот я и снова говорю с тобой, Сэдюк. Не из чего тебе выбирать теперь. Время уходит… и мне плыть пора, припозднился. Что делать будем?
– Мы долго ждали тебя, Иван. В прошлом году нарочно своих людей не присылал? И сам не пришел? – старик взглянул на купца и усмехнулся, так, чуть самую усмехнулся, краем глаза одним, уголком рта.
Они хорошо понимали друг друга. «Нет, не отступит старый… пропадет, – без выражения подумал гость. – И я…»
– Сколько лет мы с тобой встречаемся, а, купец?
– Много, Сэдюк, верно. И не все купцом был, тоже верно… Арапас твоей сколько? Семнадцать? Да еще полстолько… помнишь, я тебе сироту принес?.. это за три года до нее. Да… И сам тогда замерз было с ним, в горячке и добрел до тебя, повезло. И меня спас, и парня вырастил, Гарпанчу…
Здесь Иван Кузьмич вспомнил жалобу священика: «Некрещеный он, Сэдюк, упорствует. Конкурент, мол!» Вспомнил вдруг, ни к чему бы, и усмехнулся, наяву представив обиженный рокот Варсонофьевского баса, и уже вслух сказал по-русски, отвечая собственным сетованиям: «Если б только тебе, отче…»
– Что, опять обижается на меня Санофий, – понял старик его мысль. – Напрасно. Скажи: я не мешал, пусть люди верят, в кого хотят… верили бы… пусть, если это их добрее сделает. Только как же, Иван? – не делает, а? Пусть не сердится… я же вот даже тебя понимаю, хоть бога его не знаю, и твоего ведь тоже… А со своими богами мне зачем же ссориться?
– Заберу я дочку, Сэдюк. Там лучше у меня будет, а то…
– Потом. Ей со мной еще поговорить надо.
– Вот я и говорю: Бог един, такую малость простит. Не о том, друже, речь. Ты ведь знаешь, почему всё… и здесь я зачем…
– Знаю, Иван. И прошлым годом не приходил для того. Знал, ведь, что ослабнут люди, не могут они уж без тебя обойтись… – А как бог твой? – простит? Ну… И ты знаешь – ничего не могу я сказать тебе. Не моя тайна… И не их, не людей, право ее тебе дать. Ничего за эти годы не изменилось, Ваня! Большой Иван!..
Глава вторая
1
… Медведь был большой. И жирный. Гарпанча знал это еще в тот момент, как впервые увидел след. «Лето прошло хорошо, наелся дедушка», – подумал.
Он седьмой день шел этим следом, ожидая, что хозяин леса заляжет, пора бы ему. А тот все брел, не меняя направления, нехотя, скорее по привычке, путая следы и злясь на что-то – это охотник тоже видел по глубоким царапинам на стволах, по вырванным с корнем деревцам, вот и прихлопнутый, вовсе нетронутый зверем молоденький лосенок зря только попался под тяжелую лапу, невесть зачем забредя в эту чащобу.
Кружит амикан, кружит… «Верно скоро встретятся с Григорием», – думает себе охотник. Гарпанча с начала выслеживания даже в мыслях стал называть себя тем христианским именем, которое дали русские при крещении. Он знает, что так надо, помнит всегда, как помнит, что старый Сэдюк ему не отец, а спас его Большой Иван, купец нынешний. Бровин тогда еще и купцом не был, он бродил по тайге один, золото промышлял: тогда и набрел однажды на стойбище родителей мальчишки, которые уже остыли, а двухлетний Гилгэ еще цеплялся возле них за жизнь.
Он бы давно догнал медведя, если бы не вел с собой оленя. «Как привезешь, если Григорию повезет», – рассуждал, оборачиваясь и заглядывая в пугливые глаза, выказывающие, что животное тоже чует зверя. Итик, лайка Сэдюка, кажется, и так уже недоволен таким долгим следованьем, но этого медведя нужно брать наверняка, Григорий же без ружья пошел. Рогатина да нож. Старик учил охотника, рассказывал, но что толку от слов, когда одному на медведя ходить еще не приходилось. А брать надо: Сэдюк стар, и люди на него косятся, говорят, что не дело было старику ссориться с Большим Иваном. Гарпанча очень хотел принести мясо, доказать верность слов отца, что жить можно и без пороха. Хотя он тоже не понимал, почему бы их тойону и не показать купцу, где лежит золото.
Сам бы он, Гилгэ, обязательно показал. Купец однажды пересыпал в ладонь юноши песок и камешек дал подержать, тяжелый камешек, Гилгэ даже понюхал его зачем-то, когда купец просил такие смотреть на речках. «Не жалко для Большого Ивана, – думал. – Почему жалко, мне не нужны…» А у Бровина, когда ссыпал обратно в мешочек, глаза краснели, как угли, на которые подуешь ночью. Но Гилгэ те камни не попадались.
И еще он благодарен Большому Ивану за то, что Григорий не родной сын Сэдюку. «Пусть облизывает жир с губ Тонкуль сколько хочет, – успокаивает он себя мыслями, дергая оленя. – Не будет Арапэ ему женой…» Даже закон здесь за Гилгэ, одного они рода – Тонкуль и Арапас. А с Гарпанчой никакие они не родственники, хоть и поила тогда своим молоком мать девушки. Брат Арапэ, ровесник его, умер, и мать тоже, остался один Григорий. Так он и называет себя, когда охотится на амикана – хозяина леса, их предка, хотя Арапас любит Гарпанча, а не Григорий; но пусть дух амикана думает, что выслеживает его Григорий – христианин, в десятую свою весну крещенный смешным отцом Варсонофием, у которого голос не хуже самого амикана.
Сейчас будто тот голос услышал Григорий, но откуда взяться здесь отцу Санофею? – Медведь, дедушка это.
Юноша подозвал к себе собаку одним шелестом пальцев. Потому что Итик тоже слышал и чуял, напрягшись всем телом, приподняв губы над клыками в беззвучном рычании, ветер к нему нес запах врага. «Григорий выследил, дак», – и юноша перекрестился, как учил отец Санофей, чтобы русский бог тоже помог охотнику.
Затем привязал оленя на длинный чумбур, чтобы сыт был и не сбежал, а из мешка достал маленького божка, которого давно дал приемный отец, и пообещал тому божку кусочек печени со свежей кровью от амикана, если духи помогут добыть зверя и отведут с дороги злую силу. Итик все понимал и ждал, подняв уши и шерсть вздыбив.
Дальше Итик побежал вперед, вбирая в себя воздух и тихонько поскуливая от возбуждения. Охотник знал, что пес теперь не промахнется, выведет точно и задержит, сколько надо. Рогатина была тяжелая, толстое древко ее морил сам старейший из цельной рябины, а где глава рода брал кованую двурогую насадку, Грапанча не знал, давно эта рогатина у Сэдюка, до того еще, как появился он, Гарпанча, сейчас притворяющийся русским Григорием, чтобы не узнал его медведь. Нож же он купил сам у Бровина, за своего соболя купил, и Иван Кузьмич хороший нож выбрал своему крестнику: вот Григорий чувствует на поясе – нож всегда под рукой.
Теперь Итик лаял уже громко и беспорядочно, он метался вокруг и старался не попасть под лапу здешнему хозяину. А тот злился, потому что он пришел на место, здесь он и хотел устроиться ночевать на зиму.
Охотник одним взглядом оценил небольшую прогалину, увидел вывороченные корни старой лиственницы, давно упавшей и уже покрытой мхом, отметил крону елки, как раз покрывшей поднятый лиственными корнями пласт земли, и большую яму под ними; верно, хозяин этот не один год здесь отдыхал, а может даже и родился в этой берлоге, потому что яма была увеличена явно самим зверем и груда хвороста натаскана им же.
Охотник сразу оценил и толстый ствол лиственницы чуть поодаль себя, и чистую, без кустов и травы, землю вокруг того ствола, а земля устлана отжившей хвоей, нехорошая то опора. Но лучшего не было, да и зверь уже заметил врага, их взгляды встретились, шерсть поднялась на загривке медведя, он рыкнул на увертливого хриплого пса и повернулся оскаленной мордой к человеку. «Большой амака, человек такого не видел…» – мелькнуло.
– Ки-и-к… – не совсем решительно каркнул Гарпанча, но и собрался с силой. – Ку-у-к! Ки-как!
Так кричит ворон, так ворон охотится, и охотник предупреждает дедушку-амака, что не один, мол, он здесь. «Это не я боюсь тебя… другой человек боится… это Гарпанча боится, Григорий я», – то ли думал, то ли бормотал охотник, чуя, как страх сжал затылок, а ноги захолодило и на мгновение они стали мягкими. «Ки-и-к!» – снова поддержал себя и упругими теперь, от поддержки, ногами переступил к примеченному стволу, не отводя взгляда от зверя.
Итик казался вертлявым комочком рядом с громадным туловом медвежьим, наверное пес и был-то всего с голову да шею таёжного хозяина. Не мысли, так – тени мыслей проносились, как тенями была и память о стойбище, где трудно отошли за лето от прошлой голодной зимы, а мяса опять нет, и скоро совсем ляжет новый снег, а люди уже забили первых оленей, пропадут люди.
– Как кочевать тогда? Без оленя и без мяса? – спрашивал охотник медведя.
Мгновения все, как мысль. Потому что больше ведь не отпущено. «Дедушка» этот здесь дома и вовсе не рад гостю, собака которого норовит ухватить побольнее, задержать. Знает Итик, как надо. А охотник выставил острия перед собой, другим концом рогатины нащупывая упор у дерева. Рыкнул медведь и нежданно легко метнулся к человеку. Только ждало все же жало, прямо в грудь у плеча вонзилось, отпрянул было зверь, но здесь же поднялся с рыком натужным, громоподобным, протягивая передние лапы навстречу ожогу.
Сзади же Итик наскакивает, пасть шерстью чужой забита, тоже разъярился Итик, до живого достать норовя. Пытается хозяин, не глядя, отмахнуться лапой от пса. И ревет страшно, клыки желтые показывает, дух тяжелый из пасти слышен. Туда, пониже оскала и сует охотник рогулину острую снова, пока навис над ним зверь, а пес, как ждал, вцепился где-то внизу. Так всей тяжестью плечей и лап и насунулся, разъяряясь, медведь на острие.
Вошел один рог под ключицу, другой наискось пониже – в середину груди… неудачно вошли рога, только боль несут, а не смертельно. Зверь же навстречу той боли прет, лапой с когтями домахнуть до охотника жаждет, пена из пасти течет.
Ничего теперь не изменить. На Итика, на дерево, в которое уперлось древко рогатины, да на нож надежда. Бог ли, дух ли помогут, а тень разъяренного зверя лежит уже на небольшом перед ним человечке. «Ровно Большой Иван…» – мысль ли, шорох ее, просто память?
Напряженно, жалобно постанывает древко под тяжестью… Итик! Собака попалась все же на отмашку звериную, отлетела назад, за лохматую спину… нож сам в руке… вот туда под лапы нырнуть, успеть и прижаться… мокрое брюхо и грудь, а нож сам понимает, куда ему идти…
Гора мохнатого мяса, булькая чем-то внутри, урча и тяжеловесно обмякая, навалилась на охотника, неверно завернула, будто выказывая на прощанье уходящую силу, неумолимо выдавливает из плеча Гарпанчи ту руку, что без ножа, больно становится, искристо и тошнотно… и дышать тяжело – мокрая шерсть все лицо закрыла, душный запах залил рот, нос, глаза теменью… а-а, Итик, жив, поди? – еле дергается бессильная неповоротная башка амикана – в ухо, что ли, вцепился Итик?.. но тело медвежье еще горячее, еще толчками выходит из него жизнь, к этим толчкам можно приноровиться, чтобы выбраться… боком, пласью, ползком… ф-фу-ух! – выдыхает плотную надышанность Гарпанча и поднимается поскорее. Только левая рука не дает выпрямиться, обвисает и тянет все тело в свою сторону. «Ничего, – думает парень. – Неживой амикан-дедушка».
– Это не я тебя убил, это русский Григорий тебя убил… ищи его иди! – бормочет, как положено, Гарпанча медведю, а рука не хочет слушаться, и плечу горячо, делается оно большое, и рука тяжелеет. «Ничего, дедушке вот совсем плохо, неживой теперь», – успокаивает себя Гарпанча.
– Домой теперь повезем дедушку, – медведю и псу говорит Гарпанча, заставляет себя наклониться и вытащить нож, надо печень открыть: самому кусочек теплой поесть, чтобы легче стало, Итику дать, божку обещал…
– Хорошие боги помогали Григорию тому, благодарит Григорий, однако, – пробует улыбнуться Гарпанча, но рука все мешает выпрямиться, а откуда-то из подвздоха будто выталкивается тягучая боль.
Все же он, глядя на зализывающего свой бок Итика, переваливает тушу медведя поудобнее, хотя для этого приходится стать на колени, почти лечь, и вскрывает податливое брюхо. А надо еще сходить к оленю, сделать волокущу, навалить на нее эту добычу, пока не закоченела. И каждый шаг дается все труднее, вислая рука тянет покорное тело к земле, мучительно тупая боль будит желание лечь поудобнее и забыться. Незаметно начавшийся снег на некоторое время поможет Гарпанче перебороть забытьё, но боль берет свое. «Рассердился на меня дедушка видно…» – проскальзывает еще мысль. – «Или духи мои обиделись…»
2
– Ты не выпьешь со мной, Сэдюк? Напоследок? – спрашивает Бровин, покосившись на снежную бахрому, растущую по кромке дымволока чума, и зябко передернув плечами. – Ну, как знаешь…
Он наливает себе, пьет.
Старик пыхает трубкой, внимательно смотрит сквозь сизоту дыма на Ивана Кузьмича.
– Хотел я, Сэдюк, сам взять тот ручей…
– Да, – кивает старик. – Хотел.
– Сперва сам… потом, отсюда уж, и людей посылал по твоим следам, знаешь? Не нашли… а кто не вернулся… нутром чую, доходили, а? Вот теперь… куда пойдешь, один ведь?
– Трудно вернуться… нет, не убивал я, сам знаешь. Тот твой желтый идол, знаешь, легко жертвы принимает… ты-то не постоишь за ними. Но не я помогу мой род бросить ему, Иван. Ты торгуй, хороший мех упустят люди, сами помрут – тебе же в убыток. Я уйду, не успокоишься ведь?
– Хватает рухляди, да и не в цене… другое время нынче, Сэдюк. А все равно не отступлюсь, голову положу – найду…
– Силы были б, горы навалил бы… как узнал о нем? Тогда? Ты ведь в бреду метался?
– И я думал поначалу, что блазнилось… да вот!
В огромной ладони Бровина лежал самородок. И он не казался случайной крупицей даже в этой лапе. Оба они знали его, только Сэдюк – вовсе недолго и так давно, что легко забыл; купец же, казалось, обкатал этот зеленовато-рыжий голыш по своей ладони за долгие годы обладания…
– Те-еплый! – тоненько пропел гигант, вздергивая голову, с нежной страстью пропел.
– Сволачь! Кудой! – ненавистно сказал по-русски тунгус, и ненависть та не к человеку напротив была обращена, а к этому куску, будто к живому. – Не знал я тогда, что и язык наш выучил для этого, Иван.
– Ну, не только для… здесь живу, купец я. На одном фарте да нахрапе недалеко б уехал…
Старый тунгус подложил в очаг, языки огня выплеснулись и словно обняли черный котел, пар из которого поднимался медленно вверх, смешиваясь с дымом из трубки Сэдюка. «Зачем вода-то… да, чай бы… что мне чай, сколько мы распивали уже, все уж», – шевелилось в голове купца, не складываясь ни в мысль, ни в действие. Оба молчали, только полешки потрескивали в огне. Заколебалось пламя свечи, старик поплевал на пальцы и снял огарок фитиля, посматривая на гостя, думая: «Долго Гилгэ ходит, молодой… Собираться уходить надо как же без Арапас куда возьму ох не так Иван…» Бровин сжал в кулаке самородок. «Как тогда» – оба думают.
Оба вспоминали тот далекий… «вечер? ночь ли?…»… третьи сутки мела пурга… «мокрая пурга дурная» – помнил о ней Сэдюк. Тихо всхлипывал мальчишка, принесенный Большим Иваном: «слабый мальчишка помер бы если бы у Кулпэ не оказалось в груди молока…», оба померли бы, не набреди на них Сэдюк перед пургой… а русский до сих пор в бреду и кричит необычным голосом… как зайчонок. «Вот постарели, а все пищит Иван», – улыбается некстати старик. Как зайчонок пищал, хоть такой тяжелый, что без волока не дотащить бы, жалко будет, если помрет русский… но духи у Сэдюка сильные, они напитали травы, что помешивает Сэдюк, а русскому богу нет нужды вредить Сэдюку… «Ивану теперь наши вот не помеха», – усмехается. Ухэлог много сумел передать Сэдюку, а сам помрет скоро, часто больно уходить стал один… так пристально смотрит последнее время на Сэдюка, вспоминает будто – не забыл ли чего сказать… оба они знают, что должен сказать Ухэлог напоследок. «Теперь кому скажу Гарпанча молод плохо поймет нет его может не надо вовсе» – перебивается память. А старейшего четвертые сутки не было… совсем ли ушел?.. – думал тогда – мокрая пурга летит, а потом мороз будет, худо…
Залаял и сразу смолк пес… «Итик?» Так Сэдюк зовет своего пса, звал… или теперь только? Нет, прикинул Бровин: «дед Итика залаял черт бы их подрал и мальчишка где-то теперь да что уж». Тот короткий лай почему-то прорвался в мутное сознание Ивана – он радовался потом этому лаю и тому, что Сэдюку не до него было… «только старикашка понял сразу ведь», что он очнулся и видит и слышит… может, даже учуял, что русский понимает их разговор… «Ухэлог? да тот был и помер сразу Сэдюка теперь я отправлю а толку» – мешалось в голове с быльем. Но тот не успел… или не хотел зачем-то?.. сказать Сэдюку а вот где ручей «проклятый» – «гос-споди во сне же вижу» – «черным» называл старик Сэдюку его, это успел сказать, может, раньше еще… свои у них приметы, не мог Иван потом найти… Солнце ведь по кругу ходит: сколько дорог по нему, когда единственной не знаешь. Весь залепленный серым текущим снегом, почти на четвереньках вполз в чум тот старикашка… это потом Иван разглядел его – «ишь, наоднажды увидел, а помнится!» – как черный сучок, сморщенный весь человечек, а глаза при том… И хоть мутно было еще в голове, а понял Иван, самим нутром своим понял, что важный разговор у этих тунгусов. И что подольше бы ему не выказывать своего сознания. Он крепче притворил веки, даже глаза закатил под тяжелыми веками, чтобы натуральней лицо беспамятным казалось. Замычал, ворохнувшись, и руку в сторону уронил с ладонью бессильной… «Бог рассудит не отступлюсь теперь поздно» – думалось.
… – Гляди, – говорит Сэдюку старый и усмехается. Грустно смеется Ухэлог, и ехидно смеется, как лис у ловушки обгаженной.
Откинутая рука русского бессильна. Кажется, что эти толстые пальцы сейчас растаят и растекутся под бликами огня, кажется – большая ладонь сереет и колышется: как лепешка снежная, в лужу вот обратится… «помрет» – думает Сэдюк, но лишь мельком.
– Гляди! – помнятся морщины на лице Ухэлога, вовсе скрыли они глаза от усмешки, но зато открыли белые и не старые еще зубы. Над ним, Сэдюком, та ухмылка старого лиса?.. над бессильным русским, принесшим за пазухой мальчишку – «чуть грудь у Кулпэ не оторвал захлебывался умерла Кулпэ потом в другой раз» – прикрыл глаза, а морщины Ухэлога все видны, хоть давно ушел Ухэлог, тогда и ушел… Может, и над собой насмехался? – «знаю теперь может и над собой» – оценил Сэдюк, втягивая дым: чему еще улыбаться можно, промерзнув перед смертью в одинокой пурге?.. над чем-то, неведомым тогда Сэдюку, что водило того, старого, к проклятому ручью?.. Впрочем, усмешка Ухэлога и грусть собой скрывала, может и страх: «и меня поведет знать буду Арапас потом родилась а нельзя было…» Даже боль какого-то своего знания… будто предвидения чего-то, чему помешать он не в силах, теперь знает Сэдюк чему: «прокляли они уходить теперь вовсе»…
– Страшный камень, – бормочет Ухэлог в памяти обоих, сидящих у одного огня в чуме два десятка лет спустя.
Бормочет и кладет на серую ладонь, на отброшенную в сторону беспамятную ладонь русского самородок… «этот самый зачем положил Ухэлог дай россомахе мясо унюхать все разгребет все разрушит изгадит а доберется» – вздохнул, вспоминая как сжимает больной, будто в судороге, размякшую ладонь неожиданно в каменный кулак, и чувствует Сэдюк, что никакая сила не способна теперь разжать эти сведенные пальцы.