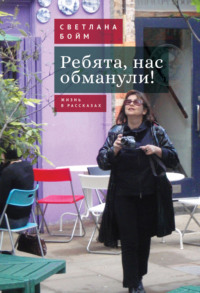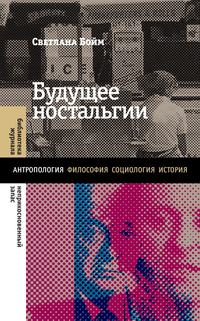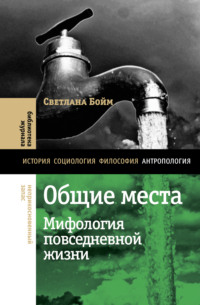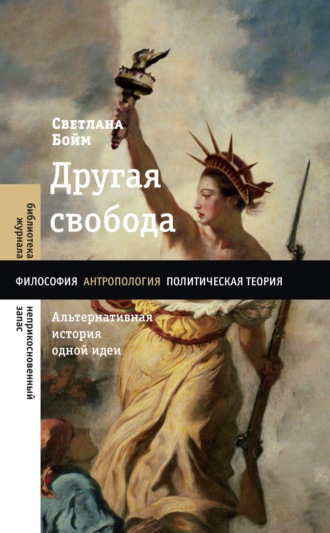
Полная версия
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
Именно в контексте постепенного принятия status quo политической жизни Российской империи мы можем проанализировать эволюционировавшие взгляды Пушкина на цензуру в России и Западной Европе, которые в значительной мере изменились в период с 1820‐х по 1830‐е годы[292]. Говоря прямо, Пушкин едва ли когда-то принадлежал к числу сторонников «Первой поправки», скорее он полагал, что Россия (в отличие от Западной Европы или США) должна принять «просвещенную цензуру». Подобно другим выдающимся поэтам того времени, он стремился стать для цензора просветителем и литературным советником. В своих дневниках 1835–1836 годов Пушкин полемизирует с русскими приверженцами Просвещения. В записях 1836 года Пушкин заходит настолько далеко, что высказывает предположение, будто Александр Радищев (чья отчасти вдохновленная Американской революцией ода «Свобода», ставшая прообразом для собственной оды Пушкина 1817 года на ту же тему) пользовался свободой слова сверх дозволительной меры[293]. Своей борьбой за политические свободы и своей радикальной критикой крепостного права Радищев довел свою критику властной инстанции (якобы) просвещенной императрицы Екатерины Великой до чрезмерной степени, – таким образом, в соответствии с полемической позицией Пушкина, по крайней мере отчасти писатель несет ответственность за собственное политическое преследование и трагическую судьбу. Вовсе не случайно, что критика крепостного права и критика цензуры в Российской империи XIX столетия шли рука об руку, равно как и критика прав человека и условий жизни обычных граждан и подавление свободы прессы в XX веке – в Советской России и постсоветской – в XXI столетии. Российская история показывает, что споры о цензуре никогда не ограничивались исключительно дискуссиями о правах самовыражения журналистов. В XVIII столетии Радищев был одним из первых русских авторов, которые писали об истории цензуры, прослеживая ее генезис – вплоть до Святой инквизиции. Пушкин согласен с тем, что цензура могла быть порождена Инквизицией, но, в отличие от Радищева, он вовсе не считает Инквизицию досадным отклонением от верного исторического курса:
Радищев не знал, что новейшее судопроизводство основано во всей Европе по образу судопроизводства инквизиционного (пытка, разумеется, в сторону). Инквизиция была потребностию века. То, что в ней отвратительно, есть необходимое следствие нравов и духа времени. История ее мало известна и ожидает еще беспристрастного исследователя[294].
Таким образом, Пушкин расценивает Инквизицию как отражение «духа времени», который следует рассматривать с точки зрения его исторической неизбежности[295]. В итоге он бросает тень на европейскую юриспруденцию как один из примеров практики инквизиции, что удивительным образом согласуется с воззрениями Жозефа де Местра[296] и других критиков концепции права эпохи Просвещения, и, разумеется, подобная точка зрения едва ли является отражением исторической достоверности: при том что европейская юриспруденция и Инквизиция действительно тесно взаимосвязаны, европейская система права восходит к Римской империи, которая, в свою очередь, впитала элементы правовых систем греческих городов-государств и древних средиземноморских империй. В своих запоздалых спорах с певцом свободы Радищевым Пушкин заходит настолько далеко, что ставит под сомнение критику Радищевым крепостного права и условий наличной практики подневольного рабского труда в России. Пушкин, с куда меньшей критикой относившийся к русскому крепостничеству, чем к американскому рабству, в зрелые годы в своих дневниках отмечает, что условия жизни русского крестьянина, существующего в системе крепостного права, по качеству могут в конечном итоге превзойти таковые у английского или американского рабочего мануфактуры, с которыми Пушкин никогда не сталкивался лично и о положении которых судил исключительно по книгам[297].
И все же, прежде чем мы признаем, что Пушкин являлся вероотступником просвещенной свободы, нам следует вернуться к его стихотворению, которое предоставляет нам альтернативные варианты толкования. В этом поэтическом произведении есть как минимум два аспекта, противоречащих нашему предшествующему тематическому и контекстуальному прочтению, – оба они находятся в пределах текста и переданы словами других авторов. Первый момент – это приписывание «оригинала» стихотворения Пиндемонте, второй же – сделанное Пушкиным примечание, которое отсылает нас к шекспировскому «Гамлету». Эти межкультурные диалоги придают дополнительную сложность политической трактовке произведения.
Пушкин не желает представляться автором стихотворения об «иной свободе». Он выдает себя за переводчика с итальянского – языка, которым он на самом деле не владел. Существует научный консенсус по поводу того, что стихотворение не принадлежало перу Ипполито Пиндемонте (1753–1828), тем паче что в ранней версии оно приписывалось французу Альфреду Мюссе[298]. И все же этот протоборхесовский жест ложного приписывания позволяет нам разглядеть множество любопытных иронических отголосков между Пушкиным и Пиндемонте. Ипполито Пиндемонте (к настоящему времени практически забытый поэт из Вероны) был известен в свое время благодаря poesie campestri – пасторальным стихам о свободе и уединении в потерянной Аркадии – царстве грез. В отличие от Пушкина, которому царь напрямую запретил пересекать российскую границу с целью посещения Западной Европы, Пиндемонте в молодости много путешествовал и проживал за границей. Сисмонди, благодаря книге[299] которого Пушкин узнал об итальянском стихотворце, отмечал, что воспоминания Пиндемонте об экзотических местах были бы более уместными в устах американского писателя[300]. Тем не менее поэзия Пиндемонте в меньшей мере вдохновлена жаждой странствий, а скорее ностальгией по отечеству и его золотому веку. Одно из стихотворений Пиндемонте, которое, вероятно, было известно Пушкину, касается неудовлетворенности отъездом за границу: «Oh felice chi mai non pose il piede Fuori della natia sua dolce terra» («Счастлив тот, кто никогда не покидал своей сладостной родной земли»)[301]. Здесь мы снова видим, что путь к счастью пролегает сквозь череду отрицаний и сослагательных наклонений, – но вместо того, чтобы раскрывать новые горизонты, они лишь расставляют знаки с надписью «Вход воспрещен» на рубежах Отечества.
Любопытно, что в настоящее время Ипполито Пиндемонте больше известен как переводчик, нежели как поэт. Среди прочего его помнят как заурядного переводчика «Одиссеи» – эта итальянская версия гомеровской эпопеи почти так же трудна для чтения, как и греческий оригинал. В XX столетии Антонио Грамши[302] упомянул именно Пиндемонте, когда говорил о настроениях итальянских literati в фашистскую эпоху и их безразличии к политике. По словам Грамши, во времена восстания Муссолини многие итальянские писатели чувствовали себя ближе к Ипполито Пиндемонте, чем к потребностям собственного народа[303]. Здесь имя Пиндемонти как нарицательное становится образчиком «забытого поэта», автора эскапистской поэзии – заурядной версии искусства для искусства. В российском же контексте стихотворец из Вероны был увековечен фиктивным пушкинским переводом. Виртуальный интертекстуальный диалог между Пушкиным и Пиндемонте более примечателен присущими ему парадоксами и фигурами умолчания, чем очевидными отсылками. К примеру, Пиндемонте никогда не писал ни слова о демократических правах, налогах или цензуре. Эта часть стихотворения – вымышленный диалог с современниками Пушкина, в том числе с Токвилем. Таким образом, политические (или, скорее, антиполитические) отсылки в пушкинском стихотворении – это вольные переложения с несуществующего оригинала[304]. Тут поэт частично снимает с себя ответственность за авторство. Защищая чутких и просвещенных цензоров, Пушкин притворяется обыкновенным переводчиком спорного стихотворения, с тем чтобы ввести в заблуждение своего не слишком чуткого и куда менее просвещенного царя – Николая I.
Проблематика перевода сама по себе связана с историей цензуры, а также с историей Инквизиции. В своих размышлениях о цензуре Майкл Холквист[305] обращает внимание на тот факт, что одно из дел в истории испанской Инквизиции было возбуждено против поэта Фрая Луиса де Леона[306] – новообращенного христианина – за перевод Еврейской Библии. Луис де Леон был наказан не за сам факт перевода, а скорее за использование «оскверненного подлинника»[307]. В случае Пушкина мы имеем дело с оскверненным подлинником другого рода. Пушкин, судя по всему, интернализовал цензуру или, иначе говоря, задействовал ее в качестве поэтического приема, апроприируя ее ограничения – с тем, чтобы выкроить пространство для своих поэтических вольностей. В 1970‐х годах был введен в научный обиход своеобразный пушкинистический неологизм, который приобрел популярность в рамках неофициального языка нового поколения советских переводчиков. Переводчики нередко говорили о pindemontias, которые они включали в свои произведения. Поименованная в честь пушкинского стихотворения, «пиндемонтия» стала обозначать единицу поэтической вольности в искусстве перевода и способ иносказательного разговора о политических проблемах. Таким образом, превращаясь в апологета просвещенной цензуры и абсолютной монархии, Пушкин также оказался одним из отцов-основателей эзопова языка, который процветал в XX столетии. Следовательно, помимо тематического толкования, искусство свободы, образ которого проиллюстрирован в стихотворении, – это не просто бегство от политики, но и форма игры, посредничества между политической и поэтической сферами.
Проблематика эзопова языка также связана с цитированием Пушкиным известного замечания Гамлета о «словах, словах, словах». Неужели Пушкин, в гамлетовской манере, ставит под сомнение слова – свой поэтический медиум? Можно ли утверждать, что повторение: «слова, слова, слова» обесценивает слово, завершая диалог? Я бы предостерегла читателей от такого толкования стихотворения, которое побуждало бы воспринимать его как метапародию. По сути, подобное прочтение будет базироваться на интерпретации гамлетовского выражения «слова, слова, слова» как обозначения «пустословия» – т. е. неправды или неискренности. Это было бы «осквернением» шекспировского подлинника.
Пушкин ссылается на действие 2, сцену 2 пьесы – это встреча Полония и Гамлета. Видя, что Гамлет читает книгу, Полоний завязывает разговор.
Полоний: …Что вы читаете, мой принц?
Гамлет: Слова, слова, слова.
Гамлет здесь говорит правду в буквальном смысле слова (он действительно читает слова на странице) – правду, которая в то же время функционирует как нарушение социальных контрактов, полностью дезориентируя несчастного Полония. Разговор Гамлета и Полония – с присущей этому диалогу взаимосвязью маскировки и брутальной откровенности, последовательности и безумия[308] – производит эффект толковательного головокружения[309]. Гамлет отказывается играть роль в чьем-либо чужом конвенциональном спектакле. «Слова, слова, слова» – это признание одновременно как буквальной правды, так и права на амбивалентность. Гамлет предстает эдаким посттрагическим плутом-трикстером, который играет словами и бросает вызов предусмотренным конвенциям – с тем, чтобы выявить оскверненные жертвы раннего опыта модерна[310], который станет подлинным испытанием для множества языковых и поведенческих кодексов и расширит границы пространства свободы. Быть может, «трагическим изъяном»[311] Гамлета является скрывающийся за образом этого персонажа намек на грядущее наступление эпохи модерна.
В стихотворении Пушкина слова Гамлета (слова) рифмуются с правами (права). На первый взгляд, рифма слова – права представляется сатирическим комментарием на тему увлеченности демократическим дискурсом, но на самом деле это еще и декларация главного права поэта – права на двойственность. В стихотворении с гамлетовской виртуозностью инсценирована его амбивалентность, которая не позволяет уложить его в прокрустово ложе чисто политического или исторического дискурса. В то же время стихотворение не позволяет нам забыть об основном контексте шекспировского «Гамлета», а именно – том факте, что Дания является тюрьмой и вокруг творится «полное безумие»[312]. Личность принца Гамлета – трактованная в образе меланхоличного денди-трикстера, облаченного в черное, шифра и иероглифа, – станет принципиально важной составляющей фигуры поэта – в диапазоне от Малларме до Пастернака и Набокова («Под знаком незаконнорожденных»)[313]. «Слова, слова, слова» служат утверждением как лингвистического скептицизма, так и поэтического права par excellence, представляя антиполитическую внутреннюю свободу, не вписанную ни в одну из конституций. Вовсе не случайно, что в последней строке стихотворения Пушкин проявляет вольность по отношению к поэтическому языку как таковому, обрывая строку посредине и, таким образом, нарушая шаблон рифмического рисунка. Стихотворение остается неоконченным отрывком, а заключенные в нем диалоги и блуждания – нескончаемыми.
Свобода в России в сравнении с демократией в америке? Пушкин и токвиль
Давайте теперь обратимся к Токвилю и проследуем по пути пушкинского творчески-некорректного прочтения, которое может пролить свет на обоих авторов, равно как и на межкультурную дискуссию о свободе. Пушкин и Токвиль – оба происходили из старых аристократических родов, и оба с восторгом и трепетом отреагировали на Французскую революцию. Тем не менее к 1830 году их представления о духе времени радикально разошлись. В то время как Пушкин, создававший свои произведения на фоне Польского восстания[314], полагал, что судьба России в девятнадцатом столетии состояла в том, чтобы сохранить монархию и империю[315], Токвиль разглядел судьбоносный потенциал именно в развитии демократии. Он был убежден, что демократия не только неизбежна, но и является единственной формой правления, соответствующей принципам законности[316]. Тем не менее его раннюю версию либерализма не следует путать с современным неолиберализмом: Токвиль никогда не выступал в защиту laissez-faire[317] капитализма или республики, основанной на этом принципе; вместо этого он лелеял (в известной степени) утопическую надежду на «воспитание демократии» посредством практики соучастия граждан и сохранения плюрализма культурных ценностей – в противовес растущей коммерциализации, которую он имел возможность наблюдать в Америке. Приводя подробное описание американских устоев и институтов, Токвиль признает, что он видел в Америке не только Америку, но и «образ самой демократии»[318]. Его путь стал путешествием сквозь страхи, идеалы и призрачные образы потенциально возможного будущего Европы, а также путешествием сквозь настоящее Америки. Токвиль надеялся спасти демократию от самой себя – во имя ее же блага, демонстрируя как ее блага, так и ее пороки. Поэтому Токвиль выбирает для себя своеобразную точку зрения – где-то между ностальгией и прогрессом, между развалинами прошлого и бездной будущего: «‹…› оказавшись на стремнине быстрой реки, мы упрямо не спускаем глаз с тех нескольких развалин, что еще видны на берегу, тогда как поток увлекает нас к той бездне, что находится у нас за спиной»[319]. Чтобы избежать, с одной стороны, ностальгического взгляда супруги Лота, жаждущей Ancien Régime, с другой – некритического принятия «диких инстинктов» демократии, Токвиль в конце книги преподносит нам поэтический образ геометрии свободы: «Провидение сделало так, что род человеческий не совсем независим, но он и не так уж закабален. Провидение очерчивает, это верно, каждому человеку некий фатальный круг, из которого он не может выбраться, однако в широких границах которого человек свободен и всемогущ»[320].
Чтобы проявить межкультурный диалог еще более рельефно, стоит отметить, что лучшим толкователем французского интеллектуального контекста, на который реагирует Токвиль, был русский революционный мыслитель и эмигрант Александр Герцен, который писал о французской постреволюционной культуре в период после роспуска революционных движений 1848 года:
Нет в мире народа, который сделал бы столько подвигов, который пролил бы столько крови за свободу, как французы, и нет народа, который бы менее понимал ее ‹…› Французы – самый абстрактнейший и самый религиозный народ в мире, фанатизм к идее идет у них об руку с неуважением к лицу, с пренебрежением ближнего. ‹…› тираническое salus popoli и инквизиторское, кровавое «pereat mundus et fiat justitia» равно написано в сознании роялистов и демократов[321].
Герцен, подобно многим русским мыслителям, не избежал обобщений и условных стереотипов касательно французской нации в целом, тем не менее он обращает внимание на важнейший интеллектуальный провал во французской революционной мысли: ее зависимость от абстракций о свободе для человечества без конкретной культурной рефлексии и какого-либо уважения к мировому опыту. В противовес этому Токвиль выступил с предложением, заключавшимся в том, что «совершенно новому миру необходимы новые политические знания», чтобы исследовать вышеозначенную границу круга человеческой свободы. Эта новая гуманистическая политическая наука объединила анализ политической системы децентрализованной демократии с культурной антропологией современной Америки (на примере северной части Соединенных Штатов), таким образом предвосхитив, как минимум на полсотни лет, развитие множества будущих научных дисциплин и междисциплинарных исследований[322]. Токвиль был добуржуазным мыслителем, который создавал свои труды в эпоху до научного разделения труда и подразделения исследований на отрасли. Токвиль заявлял об «искусстве быть свободным» как о социальном искусстве XVIII столетия, в котором одновременно изучаются как политические законы, так и социальные «mœurs»[323]. Работы, написанные именно в этом инновационном жанре французского Просвещения, повествующие об искусстве свободы, плохо переводятся как в России, так и в Америке. В то время как ранние американские переводчики Токвиля, как правило, игнорировали культурную составляющую его описания демократии, рассматривая ее как «гуманитарную науку» старой Европы и сосредотачивая внимание на изучении поселений Новой Англии и иных форм политической культуры, русский поэт узрел в трудах Токвиля выражение антропологического презрения, упуская из виду рассмотрение Токвилем успешной системы американских законов и гражданского соучастия, что для Пушкина являлось синонимом демократической заурядности и социальной условности. В действительности недавнее изучение пушкинского экземпляра издания книги «Демократия в Америке» Токвиля из его библиотеки[324] показало, что страницы, посвященные политическим институтам демократии, так и остались неразрезанными; поэт так и не удосужился, а быть может, попросту не успел прочесть все это в тот короткий период жизни, который оставался ему до безвременной кончины[325].
Это упущение не может быть случайным. В то время как Пушкин осознавал собственную снижающуюся роль в просвещении монархии, Токвиль верил в «воспитание демократии»; иными словами, его идеалом была именно просвещенная демократия, а вовсе не просвещенный деспотизм. Более того, будто, таинственным образом, давая ответ Пушкину, Токвиль отличал эгоизм от индивидуализма, – в то время как в русской мысли XIX столетия эти понятия нередко смешивались. Слово «индивидуализм» не имело для Токвиля негативной окраски: «Эгоизм – это страстная, чрезмерная любовь к самому себе, заставляющая человека относиться ко всему на свете лишь с точки зрения личных интересов и предпочитать себя всем остальным людям. Индивидуализм – это взвешенное, спокойное чувство, побуждающее каждого гражданина изолировать себя от массы себе подобных и замыкаться в узком семейном и дружеском круге. Создав для себя, таким образом, маленькое общество, человек охотно перестает тревожиться обо всем обществе в целом»[326]. Здесь снова возникает круг, но в данном случае это круг «индивидуализма».
В то же время пушкинское толкование указывает на одну из идей Токвиля в его рассуждениях о «тирании большинства», выявляя некоторые парадоксы «повседневной жизни великого демократического народа», которые могут помешать рефлексирующему суждению и индивидуальному творчеству. Токвиль писал: «Я не знаю ни одной страны, где в целом свобода духа и свобода слова были бы так ограничены, как в Америке. ‹…› В Америке границы мыслительной деятельности, определенные большинством, чрезвычайно широки. В их пределах писатель свободен в своем творчестве, но горе ему, если он осмеливается их преступить. ‹…› Именно поэтому в Америке до сих пор нет великих писателей. Гениальным литераторам необходима свобода духа, а в Америке ее не существует»[327].
Метафора преграды перекликается с определением свободы, предложенным Локком (как «ограда» вокруг объекта частной собственности), однако здесь данная ограда – сдерживающий, а не стимулирующий фронтир. Токвиль был одним из первых, кто раскрыл американский парадокс: передовая и либеральная политическая система на севере Соединенных Штатов Америки существовала здесь в сочетании с социальным конформизмом (в XX веке и Арендт и Набоков – оба будут размышлять над этим). В Америке, отмечает Токвиль, люди не склонны к гипотетическим рефлексиям: «Американцы никогда не читают работ Декарта ‹…› но они следуют этим правилам потому, что тот же тип общественного устройства естественным образом подготавливает головы людей к их восприятию»[328]. По сути, это можно истолковать как похвалу американской самодостаточности. Действительно, Токвиль высоко ценил «свободные нравы»[329], которые он наблюдал в Новой Англии; однако он ясно видел и пределы подобной самодостаточности – в том, что она способна ослабить общественную дискуссию и коллективное воображение. Токвиль начинает раскрывать свой парадокс: «С одной стороны, существует свобода прессы, а с другой – большая поверхностность мнений и великое упрямство, с которым люди цепляются за них, не из‐за веры и убежденности, но из‐за единственного убеждения, что „мое мнение не хуже вашего“. Человеческое мнение сводится к интеллектуальной пыли, разбросанной по всем сторонам, неспособной собираться воедино, неспособной объединиться»[330]. Токвиль был одним из первых мыслителей, начавших размышлять об опасности «приватизации мнений», которая ведет к отторжению от общественной жизни, а также от дискуссий и творческой солидарности, пересекающей границы политических убеждений. Таким образом, он предвосхитил дискуссии XXI века о блогосфере и передовых технологиях самовыражения, которые зачастую превращаются в толчение воды в ступе и сведению кругов общественной коммуникации к эффекту самовозвеличивающейся эхо-камеры[331]. Для рефлексирующих мыслителей, по мнению Токвиля, диалог с другими людьми является «спасительной подневольностью», который ведет к более полной реализации свободы. Именно в этой привычке «приватизировать мнения» Токвиль видел «умеренный деспотизм демократии». (Эта концепция развивается во второй книге, которую Пушкин прочесть не мог, а мы, в свою очередь, не будем предполагать, как это делал Чаадаев в свое время[332], что Токвиль «украл» проницательные мысли Пушкина.)
В корне данной проблематики и в самом сердце ее разрешения для Токвиля лежит американская концепция свободы как «повседневного дела демократии». Токвиль восхищался этим явлением, коль скоро оно вело к повседневному соучастию в политической жизни, но в то же время опасался того варианта, когда подобное означало принятие свободы как должного, что сводит демократию к экономике и «диким инстинктам» индивидуальных потребностей. Даже в трактовке XX века американская мечта, в отличие от мечты французской или русской, является удивительным повседневным занятием – утопией, достигаемой здесь и сейчас[333]. Лишь только свобода начинает восприниматься как нечто само собой разумеющееся – она утрачивает присущую ей инаковость и вдохновляющую нереальность, становясь обыденной привычкой к набору социальных практик и политических институтов. Разумеется, такие привычки необходимы для реализации практики общественной свободы, тем не менее общественная свобода вовсе не сводится к подобным обычно-правовым практикам. Задача свободы, заключающаяся в расширении потенциальных возможностей человеческого воображения и действия, там, судя по всему, отсутствует.
Хотя Пушкин и Токвиль отталкиваются от одной и той же концепции социального искусства свободы XVIII века, а также отмечают некоторые сходные моменты касательно стоящих на пути демократии трудностей и оба испытывают глубокое отвращение к рабству – они приходят к противоположным выводам о взаимосвязи между демократией и свободой. Для Пушкина свобода в единственном числе противоположна свободам во множественном числе; поэт был против распространения гражданских прав на зарождающийся средний класс и отождествлял демократию с заурядностью, филистерством и свободой прессы с сопутствующей ей журналистской разнузданностью[334]. Более того – едва ли Пушкин с симпатией относился к поддержке Токвилем децентрализованного правительства и федералистской системы власти; Пушкина ни в малейшей степени не заботили ни демократические и гражданские политические институты, ни повседневная практика демократии. По сути, он поддерживал царскую политику имперской централизации, включая подавление Польского восстания, которое в 1830‐х годах оказалось переломным моментом в российском политическом сознании. Пушкин был противником польской национально-освободительной борьбы за независимость от Российской империи. Для Токвиля, напротив, две концепции свободы: демократических прав и свободы духа – должны были дополнять друг друга. В этом отношении Токвиль согласен с высказыванием Камиля Демулена, сделанным в разгар Французской революции, о том, что разнузданность прессы должна быть защищена подлинной свободой печати, а не ее подавлением. По словам Токвиля, проблема Америки заключается не в избытке свободы, а в отсутствии защиты от тирании, которая должна исходить как от политического соучастия граждан, так и от воспитания свободного мышления.