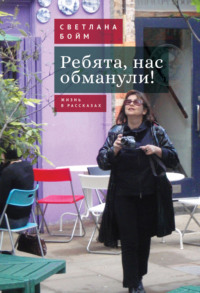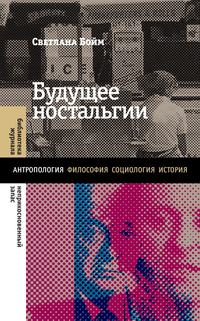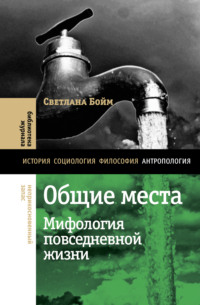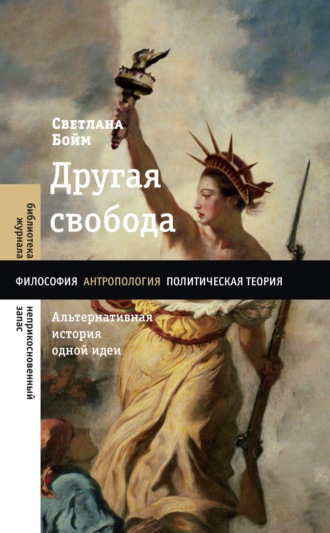
Полная версия
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
Этот аспект межкультурного диалога Пушкина и Токвиля выходит за рамки личностных особенностей обоих авторов и выявляет наличие различающихся культурных и политических концепций свободы – в России, Европе и Америке, равно как демонстрирует и существенные различия между культурой освобождения и культурой свободы. Кэрил Эмерсон проницательно отмечала, что русские интеллектуалы нередко больше заботятся о том, чтобы чувствовать себя свободными, чем о том, чтобы действовать в условиях свободы[335]. Таким образом, в России свобода рассматривается как мечта о побеге и радикальном освобождении благородного разбойника или бывшего заключенного, который строит из себя претендента на престол – такого, как Стенька Разин или Емельян Пугачев, чей бунт являлся одним из излюбленных предметов исследования Пушкина. Это объект ностальгического или футуристического вожделения, а вовсе не свод правил повседневного поведения в настоящем времени. Освобождение зачастую представляет собой нарушение границ, преступление или трансцендирование[336], а не балансирование между игрой и ответственностью на границе закона. В то же время некритическая практика развития свобод во множественном числе в сочетании с тиранией большинства может породить конформизм и ограничить воображение. Американская демократия не может стать декларативной версией судьбы для всего мира. Свобода нуждается в собственной инаковости, в собственном творческом индивидуальном измерении, отраженном в литературе, философии и нетрадиционных форматах бытия. Таким образом, вымышленный диалог между Пушкиным и Токвилем раскрывает политические аспекты мышления Пушкина и поэтические аспекты мышления Токвиля, а также сложные взаимосвязи между свободой индивидуального воображения и политическими рамками, которые оформляли художественные мифологемы.
Быть может, то, что больше всего отпугивало Пушкина в американской демократии, – это не тот факт, что она не работала, а тот факт, что она могла бы начать работать. Все так, будто он с ужасом предвидел собственное исчезновение – уже после физической смерти, – в десакрализации самой поэзии. На территории «равных условий» поэту уже не требуется быть «вторым правительством». Для нерукотворного памятника, который Пушкин воздвиг себе, в новом мире не нашлось бы места.
Две концепции свободы по ту сторону холодной войны: Берлин и Ахматова
Если представить себе, что перед нами кинофильм, а не текст, то в этом месте картинка бы постепенно погасла и появилась бы заставка с титрами: сто лет спустя… В 1946 году произошла еще одна встреча, которая с новой силой драматизировала диалог между свободами во множественном числе и свободой в единственном числе. Между эстетикой, героизмом и демократическими императивами. Главными действующими лицами являются Исайя Берлин и Анна Ахматова: он изучает либеральную традицию Констана[337], Милля и Токвиля, она же является великой поэтессой XX века и нетрадиционной пушкинисткой, которая дала ответ на многие стихотворения классика, в том числе «Из Пиндемонти»[338]. Более важно то, что, словно вторя знаменитому токвилевскому предсказанию о будущем противостоянии России/СССР и Америки, их встреча случилась в самый разгар холодной войны. Ахматова, которая, по словам Берлина, всегда видела себя актрисой на мировой исторической сцене, считала, что именно их встреча и положила начало холодной войне. «Мы с ним такое заслужим, Что смутится Двадцатый Век», – написала Ахматова в отрывке «Поэмы без героя», посвященном ее встрече с Берлиным[339]. Берлин же заявил, что встреча с Ахматовой стала одним из наиболее важных событий в его жизни. Говорили они о жизни, об искусстве и обо всем остальном. Быть может, сама концепция политической, художественной и экзистенциальной свободы и не являлась основным предметом их диалога, но точно стояла за всем, что было сказано, и за тем, что так и осталось невысказанным. Я бы предположила, что данная встреча (в ряду других событий) вдохновила Берлина на создание собственной теории позитивной и негативной свободы, а также стала одним из источников его представлений о культурном плюрализме.
Встреча с Берлиным возымела для Ахматовой трагические последствия; она находилась под постоянным наблюдением, а та самая ночь, проведенная ею за разговором с Берлиным, спровоцировала ярость самого Сталина. «Значит, наша монахиня принимает у себя английских шпионов!»[340] Сталин, как утверждалось, обратился непосредственно к А. А. Жданову, на которого он возлагал ответственность за советскую культурную политику. В знаменитом постановлении[341] Жданова Ахматова именовалась «полумонахиней, полублудницей» и клеймилась как представитель старой петербургской, а не ленинградской культуры[342]. Вскоре после принятия постановления ее сын был арестован и отправлен обратно в ГУЛАГ[343]. 1946 год ознаменовался значительными изменениями в советской политике, началом холодной войны и последней волной чисток, на сей раз против врачей-евреев, которых называли космополитами и «сионистскими фашистскими» коллаборационистами[344]. Родственники Берлина, которых он посетил в Москве, также были арестованы[345]. Вполне очевидно, что никто не мог предсказать капризы поздней политики Сталина, а визит Берлина, скорее всего, был лишь одним из многих поводов для политической паранойи конца 1940‐х годов в Советском Союзе.
Берлин вспоминает, что Советский Союз зимой 1945/46 года был трагической «иллюзией рая» в подвешенном состоянии – между победой над фашизмом, которая обещала новую открытость по отношению к военным союзникам СССР, англичанам и американцам, и грядущей холодной войной. В 1945 году Берлин оказался в Советском Союзе в качестве переводчика и секретаря посольства Великобритании в Москве, где не хватало русских переводчиков. Это было первое возвращение Берлина в страну, где он вырос, и в город Ленинград – Санкт-Петербург, где в детстве он стал свидетелем разразившейся русской революции. В публикации, сделанной в 1980 году, Берлин описывает, что заглянул в книжный магазин писателей на Невском проспекте и по чистой случайности был приглашен в «Фонтанный дом» Анны Ахматовой на скудный торжественный ужин, состоявший исключительно из вареной картошки[346]. Она проживала в великолепном особняке на Фонтанке, который был разделен на дюжину коммунальных квартир, составляющих своего рода коллективный паноптикум. Посреди разговора случился любопытный инцидент. Берлин вспоминает, что услышал, как из двора дома Ахматовой его окликали по имени. Это был Рэндольф Черчилль, сын Уинстона Черчилля и однокурсник сэра Исайи по Оксфорду, хотевший купить в Ленинграде икры и нуждавшийся в услугах Берлина, который смог бы помочь ему с переводом. Рэндольф Черчилль действовал как подвыпивший «студент», не обращая внимания на обстоятельства[347]. И все же появление сына Черчилля во дворе дома Ахматовой стало причиной будущих нападок на Ахматову со стороны обвинителей.
Данная встреча характеризуется рядом любопытных элементов театральности, которые имеют непосредственное отношение к вопросу о свободе и ее социальной инсценировке. Берлин, в соответствии с его собственным описанием, выступает в роли застенчивого, несколько сдержанного англичанина, играющего в пьесе, сценарий которой он не до конца понимает. Эта встреча отмечена глубокой близостью, а также своего рода разобщенностью и несоизмеримостью. Первая же из происходящих трансгрессий затрагивает время и пространство. Берлин видит в Ахматовой образ Кристины Россетти[348] или «изгнанной королевы», в то время как для нее он «гость из будущего» и одновременно звено, связывающее с прошлым. Ахматова, будучи отрезанной от всего мира, с единственным сыном под арестом[349], не могла не ощущать, что эта встреча была ее связью с внешним миром – нитью Ариадны, указывающей выход из ее клаустрофобического бытия. Вечер продолжается до позднего утра, попирая все возможные устоявшиеся принципы светской беседы, – это был даже не роман, но нечто куда более интригующее.
Более того, русская и английская концепции государственного и частного пространства четко различаются. Ахматова в своем заточении предстает царственной особой. Она – узница в пространстве своей коммунальной квартиры и царица фантомного мира собственного воображения. Берлин же для нее – одновременно чужестранец и земляк. Сначала она декламирует байроновского «Дон Жуана» на немыслимом английском с такой страстью, которая смутила его. Берлину приходилось смотреть в окно – только чтобы не встретиться с ней взглядом. Стиль ахматовской декламации – такой, будто она обращается со стихами к стадиону, полному зрителей, – не соответствует той камерной обстановке, которая их окружает. Все так, словно только в частном порядке, в нерабочее время, она может воссоздать свой идеальный публичный мир, где царит тоска по мировой культуре[350].
Ни одно из привычных толкований культурных различий не позволит сделать более понятной эту непривычную встречу. Ахматова беседует с Берлиным об эпохе Возрождения и о мировой культуре, по которой она и Мандельштам тосковали. Она представляет, как они исполняют свои роли на подмостках всемирного театра. Ахматова не разделяет Россию и Англию, а скорее сообщает Берлину, что он пришел из «мира людей», к которому некогда принадлежала и Россия. Иными словами, ни национальная, ни гердеровская модель[351] культуры в данном случае не применимы. Если он поначалу воспринимает ее как русскую/советскую поэтессу, то она делает все, чтобы развеять это ощущение, говоря о языческом и «нерусском» мире ее детства в Крыму и своей приверженности космополитическому идеалу, подобному тому, который Гете именовал «мировой литературой»[352]. Исайя Берлин для нее идеальный адресат – ее согражданин свободного мира культуры. Ахматова читает Берлину свою «Поэму без героя», которую он находит загадочной и наводящей на воспоминания, и просит ее прокомментировать и раскрыть интертекстуальные отсылки, намеки и личные аллюзии. Она, в свою очередь, отказывается это сделать. Она, по ее словам, создала это произведение для «вечности». Ее концепция диалога выходит за рамки современности, отдавая дань поэтическому представлению Осипа Мандельштама о собеседнике[353] – идеальном космополитическом и лирически гермафродитическом[354] адресате[355]. Ахматова пишет для читателей без границ – временных и пространственных, – а вовсе не для неких грядущих фактоискателей.
Беседа длиною в ночь между Ахматовой и Берлиным внезапно оказывается подлинным проявлением близости. Для нее это практически любовный роман via negativa, платоническая любовь – не с первого взгляда, но с первого разговора[356]. Момент близости наступает, когда он сравнивает ее с Донной Анной в «Дон Жуане», перемещая туда-сюда свою швейцарскую сигару, очерчивая мелодию Моцарта в воздухе между ними. Позже она вспомнит этот момент в стихотворении о визите Энея к Дидоне в разрушенном войной Карфагене[357]. Берлин был сильно смущен таким сравнением и даже пожаловался на это Иосифу Бродскому. «Он и правда был непохож», – отметил Бродский[358]. Тем не менее Бренда Трипп, коллега Берлина, сопровождавшая его в поездке, вспоминает, что после встречи с Ахматовой Берлин бросился на кровать в своей комнате со словами «Я влюблен, я влюблен»[359]. (Много лет спустя, когда Ахматова узнала, что Берлин женился, она в своей обычной едкой манере поинтересовалась, как ему живется «в золотой клетке»[360].) Итак, ретроспективно, их разговор – это немыслимая встреча плененной царицы и либерала в золотой клетке. Он всего лишь буржуазный профессор, в конце концов, он слишком осторожен в своих свободных искусствах. Таким образом, в социальном искусстве свободы оба как преуспевают, так и терпят неудачу. Из них двоих именно она больше рисковала, заплатила более высокую цену и больше поставила на карту.
В дискуссии о литературе они одновременно сходятся и расходятся во мнениях. Он любит Тургенева и Чехова, самых «британских» русских писателей, известных своей утонченностью, нюансами и умеренностью, весьма нехарактерной для русской культуры в целом. Она предпочитает Пушкина, Кафку и Достоевского, которых он почти не переваривает[361]. (Могло ли это являться проявлением флирта с ее стороны, призывом уйти от умеренности в направлении более рискованной близости, который он упустил из виду?) В своих предпочтениях Берлин в конечном итоге скорее человек XIX века, который воспринимает литературу либо как сестру-близняшку интеллектуальной истории, либо как повествование о нравственности творческих личностей. Образ мысли Берлина восходит к тому периоду в XIX столетии, когда и либералы и романтики разделяли ценности творческой и самопреобразующейся индивидуальности. Ахматова как поэтесса не была склонна придерживаться принципов романтической эстетики; не случайно еще в юности она была близка к одной из наиболее антиромантических литературных школ XX века – акмеизму. Создавая свои произведения в формате личного дневника, она тем не менее не была склонна к отождествлению жизни и текста. Как отмечал Виктор Шкловский в своих ранних критических заметках о ее творчестве, когда элементы жизни становятся искусством, они остраняются, они становятся литературными приемами, а не биографией; но Берлина вовсе не беспокоили вопросы литературного воображения эпохи модерна.
Ахматова для Берлина – идеал целостности, присутствие которой он неизменно отмечал у русских мыслителей; она не произносит ни одного антисоветского слова и кажется скорее патриотичной, но весь ее литературный труд – обвинительный акт в адрес советской системы. Ахматова, не принадлежавшая к числу политических диссидентов, была носителем внутренней свободы пушкинского образца, которая в условиях Советского Союза приобретала политическое значение. Одно из ранних стихотворений Ахматовой иллюстрирует удивительную концепцию личной свободы: «Есть в близости людей заветная черта, Ее не перейти влюбленности и страсти»[362]. Эта черта, подобно контуру круга провидения и свободы, не разрушает, а скорее делает возможными любовь и поэзию. Собственная поведенческая модель Ахматовой, так или иначе, воплотилась в данном поэтическом произведении и одновременно оспорила его.
На мой взгляд, именно встреча с Ахматовой оказалась фундаментальным условием появления концепции свободы и плюрализма «цели жизни»[363] Берлина. В интервью Стивену Люксу[364] Берлин описывает себя скорее как приверженца политики «Нового курса» Рузвельта, а также ряда вариантов европейского социализма, нежели сторонника либертарианского и экономического определения свободы Хайека[365]. Тем не менее он остается принципиальным антимарксистом и антигегельянцем. Его визит в Советский Союз подтвердил его фундаментальную антипатию к любой форме детерминистской идеологии, которая рассматривает людей как полезный человеческий материал для построения светлого будущего. Хотя Берлин в куда большей степени, нежели иные либеральные мыслители, симпатизирует стремлению к национальному признанию, в разговоре с Ахматовой дискуссия о свободе вовсе не ограничивается пределами национальной или культурной тематики. Во всяком случае, участники диалога выявляют своеобразные отличия внутри самих себя, собственные множественные виды принадлежности и порой даже их чуждость по отношению к собственной натуре.
В своем эссе «Две концепции свободы» Берлин выступает с критикой «позитивной свободы». Тем не менее его концепция весьма далека от формата бинарной оппозиции. Позитивная свобода неразрывно связана с понятием самодисциплины и самообладания, которое ведет к коллективному исправлению «кривой древесины человечества», столь любезной сердцу Берлина. Негативная свобода определяется в первую очередь как свобода от принуждения и вмешательства государства в частную жизнь индивида, но она вовсе не ограничивается этим вариантом англо-американской концепции и проникнута позитивным креативным потенциалом. Еще один межкультурный диалог существует между строк – в его зачастую парадоксальном описании. Берлин заявляет, что негативная свобода не является обязательным условием демократии. Здесь Берлин продолжает критику тирании большинства, которую вели Токвиль, Милль и Герцен. Для Берлина величайшим русским мыслителем свободы являлся вовсе не Пушкин, а именно Александр Герцен, которого он ставит где-то между Токвилем и Марксом. Герцен развивает творческие аспекты свободы личности, которые, по его мнению, ни в коем случае не должны приноситься в жертву ради демократического конформизма или революционного братства. Вот одна из любимых Берлиным цитат Герцена: «Почему, собственно, свобода числится драгоценной? Да просто-напросто потому, что свобода – это свобода: самодавлеющая цель. И жертвовать ею чему-либо другому означает, в сущности, совершать людские жертвоприношения»[366]. Герцен оказывается между двумя противоположными берегами: русское богатство личности и воображения в условиях отсутствия политических прав и растущее «мещанство» и конформизм среднего класса, которые он имел возможность наблюдать в более демократических режимах на Западе. В конечном итоге, несмотря на собственное толкование русской истории и разочарование в романтизме, Герцен восхищается русской крестьянской общиной в куда большей степени, нежели западными гражданскими сообществами представителей среднего класса, которые восхваляли многие западные либералы[367] Что же до самого Берлина, то он предпочитает не выбирать между своим любимым Герценом, чью романтическую личность и ясное мышление он лелеет, и более трезво мыслящим Миллем, чьи политические воззрения, быть может, куда ближе его собственным. Берлин принципиально не согласен с Миллем в том, что гений может выжить только в демократическом обществе[368]. Ахматова и другие русские творцы – весомое доказательство обратного. Они имеют высочайшую планку оценки минимальной личной свободы как самоцели. Негативная свобода Берлина существует в масштабе, который не сводится к политическим правам; это непременно должна быть и свобода потенциальных возможностей (а не просто рациональных вариантов выбора) – и тех неисчислимых невероятностей, из которых складываются лучшие моменты человеческой жизни. Примерно через три десятилетия после написания эссе «Две концепции свободы» Берлин искреннее разъясняет свою позицию: «Негативная свобода заключается в том, сколько дверей перед вами открыто, позитивная свобода заключается в том, кто вами правит»[369]. Здесь мы становимся свидетелями любопытного хиазма: негативная свобода у Берлина понимается как стимулирующая и «позитивная» в своем потенциале, в то время как позитивная свобода имеет отношение к сфере власти, которая ограничивает людей и удерживает их на своем месте. Более того, метафора об открытой двери заимствована непосредственно из поэтического цикла Ахматовой «Cinque», заключительная часть которого была посвящена их встрече: «Но живого и наяву / Слышишь ты, как тебя зову. / И ту дверь, что ты приоткрыл, / Мне захлопнуть не хватит сил»[370]. В стихотворении Ахматовой дверь лишь приоткрыта, но поэтесса самоотверженно отказывается ее захлопнуть. «Негативная свобода» Берлина не является автоматической гарантией демократии[371], но в то же время, что становится совершенно ясным из текста примечания к эссе «Две концепциям свободы», – так это то, что Берлин воспринимает как должное обеспечение основных политических прав и прав человека, даже если его собственное толкование свободы к ним и не сводится. Примечание несет добавочный и противоречивый смысл по отношению к основной части текста; что и делает отчетливо заметным различие между возможностями выбора в тоталитарных обществах и демократических, не уменьшая при этом возможности потребительского выбора.
В каждом конкретном случае бывает очень трудно оценить степень «негативной свободы». На первый взгляд может показаться, что для нее важна лишь возможность выбора между, по крайней мере, двумя альтернативами. Однако не всегда, выбирая, человек располагает одинаковой свободой или вообще обладает свободой. Если в тоталитарном государстве я предаю друга под угрозой пытки или даже из страха потерять работу, то я могу с полным основанием утверждать, что я не действую свободно. ‹…› Простое наличие альтернатив, следовательно, еще не достаточное условие, чтобы мой поступок был свободным в обычном понимании этого слова ‹…› На мой взгляд, степень моей свободы зависит от того, а) сколько возможностей открывается передо мной ‹…›; б) насколько легко или трудно осуществить каждую из этих возможностей; в) насколько важны эти возможности с точки зрения моих жизненных планов, моего характера и обстоятельств, в которых я нахожусь; г) в какой мере сознательные действия других людей могут воспрепятствовать осуществлению этих возможностей; д) какую ценность приписывает этим разнообразным возможностям не только сам человек, но и общее мнение сообщества, в котором он живет[372].
Концепция негативной свободы Берлина не является продолжением пушкинской «внутренней свободы». Хотя Берлин и любил пушкинскую лирику, но он не отдавал поэту ведущую роль в русской интеллектуальной истории, как это делают многие русские мыслители и писатели. В своем эссе о Белинском Берлин описывает отношение Пушкина к формирующейся, все более демократичной литературной культуре и говорит о присущем поэту «„высокомерии“ ‹…› его неоднократных попытках выставлять себя аристократическим любителем словесности, а вовсе не профессиональным литератором», и о том, как он «успешно уклонился от личного знакомства» с Белинским, которого он считал «невыносимым» и оскорбляющим чувства «изысканного аристократа»[373]. В эссе «Две концепциии свободы» Берлин не отождествляет негативную свободу с внутренней свободой. Он, судя по всему, скорее рассматривает стоическую и христианскую модель внутренней цитадели как форму радикального самообладания и оборотную сторону позитивной свободы, которая может сосуществовать с политической несвободой. Берлин обращает вспять высказывание Эпиктета о внутреннем освобождении. В ответ на утверждение Эпиктета, что можно заковать его ногу, но его свободу воли и Зевс не может одолеть[374], Берлин предлагает свою притчу: «У меня на ноге рана. Существуют два способа избавиться от боли. Один – лечить рану. Но если лечение слишком тяжело или ненадежно, то есть и другой способ. Я могу избавиться от раны, ампутировав ногу»[375]. Эпиктет, бывший раб, мог чувствовать себя более свободным, чем его хозяин, но созданная им концепция самоосвобождения была полной противоположностью политической свободе. Скорее это был лишь способ выживания сохраняющего собственное достоинство несвободного человека в эпоху империи. Равно так же внутренняя свобода и личная неприкосновенность, культивируемые Ахматовой, были формой сопротивления в предельно гнетущих условиях, но идеализация или романтизация этого стали бы не только неуважением по отношению к ней, но и увековечиванием самого угнетения. Берлин не разделяет пагубную веру в то, что цензура всегда способствует появлению хороших поэтических метафор.
Урок, который Берлин извлекает из встречи с Ахматовой, – это потребность в плюрализме жизненных целей – вместе со всеми его ограничениями. Ограничение же – это вопрос политических прав, без которых романтика внутренней свободы (когда это не единственно возможный выбор или вопрос абсолютной необходимости, как в случае с Ахматовой) может превратиться в молчаливое согласие с политической несвободой. Хотя Берлин и делает акцент именно на понятии свобод во множественном числе, включая и поэтическую свободу, при этом он не упраздняет различия между свободой и свободами. Когда слово «свобода» претендует на единственное число, какое бы прекрасное прилагательное ни предшествовало ему, оно превращается в угрозу для плюрализма. Более того, в его концепции свобода и система являются антонимами. (Это определение восходит к Бродскому, который рассматривал эссе Берлина не как произведение философского творчества, а как следствие «физиологического отвращения»[376] к жестокости XX столетия.) Тем не менее Берлин не предлагает – подобно Токвилю или даже Миллю – воспитывать демократию. Порой агонистический либерализм Берлина – его концепция несоизмеримости различных культур и отдельных «целей жизни» – оставляет нам больше вопросов, чем ответов, однако его собственная диалогическая форма письма и речи всегда приглашает к дальнейшему обсуждению.

Рис. 9. Светлана Бойм. Шахматный коллаж, сочетающий в себе фотографии памятника Достоевскому в Омске, Россия, и памятника Марксу в Москве, Россия, с карикатурой XIX века на Захер-Мазоха и «диалектику взаимоотношений господин – раб»
Встреча Берлина с Ахматовой, несмотря на ее трагические последствия для поэтессы, имела другое измерение, которое было дорого им обоим. Это было великое приключение, безмерно невероятное для Ленинграда образца 1945 года. По сути, оно передвинуло пороги времени и пространства и, несмотря на многочисленные элементы несоизмеримости, стало одним из тех совершенных моментов человеческой спонтанности и диалога – ночью свободы. В одном из своих весьма позитивных, на мой взгляд, определений негативной свободы Берлин преподносит нам другую версию открытого межкультурного диалога с множеством потенциальных возможностей, который не видится в качестве культурной несоизмеримости. Очевидно, что свобода – это далеко не всегда счастье, а нередко и вовсе нечто совершенно ему противоположное, но порой двое совпадают в счастливый момент встречи и «bon-heur»[377]. Это, по поэтическому описанию Берлина, момент незапланированного «douceur de vivre»[378] «свободы и терпимости», «пустой болтовне, праздному любопытству, бесцельному стремлению к чему-то неодобренному свыше – самая „явная потеря времени“ – может спонтанно привести к индивидуальному своеобразию (за которое данный человек должен в конечном итоге нести полную ответственность) и всегда будет стоить больше, чем точнейший данный свыше образец»[379].