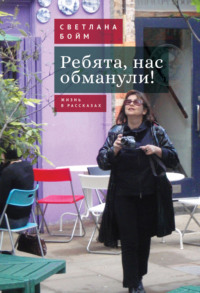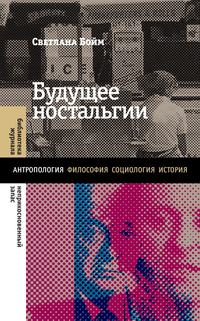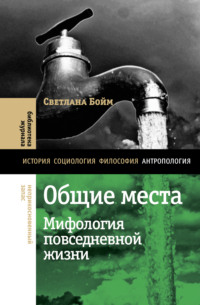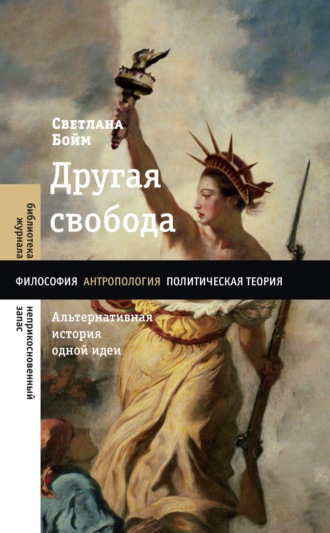
Полная версия
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
Согласно второму, от боли, наносимой ему внедряющимися клювами, Прометей все глубже вжимался в скалу, пока не стал ее неотделимой частью.
Согласно третьему, многие тысячелетия спустя его вина забылась, забыли боги, забыли орлы, забыл и он сам.
Согласно четвертому, от того, что стало беспочвенным, устали. Устали боги, устали орлы, усталая рана закрылась.
Остались необъяснимые скалистые горы. – Сказание пытается объяснить необъяснимое. Но поскольку оно исходит из почвы истины, то его конец – в необъяснимом[216].
Притча Кафки о модернистской хандре, усталости, которая скрывает раны, стирая различия между τέχνη и μανία. Мы пребываем в эпохе модерна, когда, как отмечает Ханна Арендт, общие критерии традиции уже невозможно принимать как должное. На первый взгляд кажется, что притча имеет циклическую структуру – начинающуюся и заканчивающуюся необъяснимым, или буквально «неосвещенным». Она практически не повествует о свободе, скорее рассказывает о небытии, которое обращено куда-то за пределы диалектики памяти и забвения.
Почему же здесь четыре разные легенды, а не какая-то одна, определенная? Каждая из версий легенды несет с собой различную темпоральность: первая имеет циклическую темпоральность мифа, вечное возвращение наказания, но не в ницшеанской трактовке, а скорее в трактовке Достоевского – как «дурная бесконечность». Вторая версия строится на мифологическом сюжете метаморфозы. Прометей, подобно преследуемой нимфе, обращается в камень, чтобы избежать страданий. Третья и четвертая версии легенды повествуют о модерне: модерн в период после эпохи Просвещения впечатывается в традицию, подобно тому как Прометей вжимается в скалу. Так, история о Прометее превращается в притчу о рассказывании историй.
Кафка стирает границу между мифами Древней Греции, которые существуют в нескольких версиях, и иудейской традицией хасидских сказаний и мидрашей[217]. Те, кто их рассказывает, на протяжении столетий компенсируют нехватку реальных политических свобод относительной свободой в толковании. Трагический сюжет освобождения и свободы перемещается в пространстве и времени и становится кросс-культурной басней.
Прежде чем мы поспешим предаться типичным рассуждениям о кафкианском и необъяснимом, давайте попробуем прояснить, что именно здесь служит источником повествования: пережитки истины и света и памятное место на скале.
Перечитывая текст, мы начинаем отмечать повторения, связанные с корнями: дело, которое «стало беспочвенным», исходит из «почвы истины»; по аналогии, то, что остается «неосвещенным», – это то, что взывает к прояснению. Иными словами, притча побуждает нас противостоять нашим ограничениям и прояснять то, что нам не ясно. «Почва» в данном случае – это явно не сцена театра, а пространство долгосрочных культурных толкований. Но каким же образом сквозь нее просвечивает истина?
Понимание взаимосвязи между истиной, светом и театром вытекает из одного из афоризмов Кафки:
Наше искусство заключается в том, чтобы быть ослепленным правдой: истинным является только обнаженный свет на гримасничающем лице, ничего более! (Unsere Kunst ist ein von der Wahrheit Geblendetsein: das Licht auf dem zurückweichenden Fratzengesicht ist wahr, sonst nichts!)
Всю свою жизнь Кафка интересовался идишским театром эпохи модерна, в котором используются маски и игра теней. Здесь входят в соприкосновение маски идишского театра и греческой трагедии. На театральную маску падает свет истины, отбрасывая короткие тени. Свет ослепляет, но не обеспечивает полной засветки: в творческой вселенной Кафки претензия на тотальное обладание истиной стала бы проявлением авторитарной лживости. В лучшем случае мы можем лелеять пространство светимости и кьяроскуро[218], так как истина является соотносительной, а не относительной[219]. Огонь Прометея продолжает пылать, попутно создавая межкультурные притчи. Остается одна лишь игра теней агностической истины – единственное, что нам доступно в мире притч. Перечитывая притчу, мы расковываем ее «пессимистическую» циклическую структуру, проявляя параболическую спираль, в которой каждое из толкований пере-означивает предшествующее, предвещая предстоящее, но при этом остается исключительным. Желает того Кафка или нет, но он продолжает Прометеев труд, рассказывая свои истории в мире, который цветет на почве устаревания и забвения. Его Прометей-рассказчик и Сизиф Камю – это близнецы-братья.
Мандельштам, или Театр террора
Другая притча XX века о Прометее, которого преследует μανία, восходит к Осипу Мандельштаму (1892–19?)[220] и переносит нас в Советский Союз 1930‐х годов. Трагическое пространство здесь преисполнено диалогом между творчеством и жизнью поэта и его собственной оскверненной жертвой. То самое место, где расположена скала Прометея, – на далеком Кавказе – существует на самом деле – и является местом рождения «великого вождя народов» – Иосифа Сталина, а также местом изгнания римского поэта Овидия. В 1937 году Мандельштам не мог позволить себе сочинить притчу о забвении и усталости, поскольку он обитал в стране радикального забвения, где Кафка стал былью[221].
Авторитарные и тоталитарные режимы отдают предпочтение ресакрализации общественной сферы. Именно поэтому литература и искусство обязаны находиться под строгим контролем, потому что они преподносят конкурирующие дискурсы и ценности, носителями которых являются те самые «неофициальные представители народа» – писатели и художники. Их несанкционированные выступления в жизни и в искусстве ставят под сомнение ставшие вновь сакральными границы грандиозного, но недифференцированного государственного пространства, которое конституирует «тоталитарное возвышенное», скрепленное опьяняющими массовыми празднествами и потаенными пространствами страха. В таких обстоятельствах прояснение почвы истины является маловероятным, но необходимым императивом.
Осип Мандельштам вовсе не собирался становиться мучеником, дотошно рассчитывающим собственное самопожертвование – будь то ради рая, в который он не верил, или ради потомков. По большому счету, он желал быть поэтом «без биографии», стихотворцем, чья биография была бы библиографией – «списком прочитанных книг» и которого будут помнить – в отличие от Эсхила, желавшего прославиться военной доблестью, – за его стихи и его тоску по мировой культуре. Коллега-писатель Иосиф Бродский видел в Мандельштаме русско-еврейского «бездомного поэта»[222], грезившего о «мировой культуре» – где Данте и дадаисты могли бы обитать в общем пространстве.
Поэт едва ли являлся реальным кандидатом на роль открытого оппозиционера власти советского лидера. И все же первое упоминание о «кремлевском горце» появляется в его стихотворении «Эпиграмма на Сталина» еще в 1933 году. Мандельштам, имевший репутацию поэта для поэтов, устранившегося из политической сферы, стал одним из тех избранных, у кого чувство гражданского долга[223] оказалось развито в той мере, чтобы написать меткую эпиграмму на сталинскую эпоху:
Мы живем под собою не чуя страны,Наши речи за десять шагов не слышны,А где хватит на полразговорца, – Там помянут кремлевского горца.Его толстые пальцы, как черви, жирны,И слова, как пудовые гири, верны,Тараканьи смеются усища,И сияют его голенища.А вокруг него сброд тонкошеих вождей,Он играет услугами полулюдей.Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,Он один лишь бабачит и тычет.Как подкову, дарит за указом указ – Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.Что ни казнь у него – то малинаИ широкая грудь осетина[224].«Мы» в данном случае – это гражданское «мы» – общественность, формирующая πόλις, а не мифический «народ» на социалистических транспарантах. В этом стихотворении Мандельштама едва ли найдется хотя бы одно чисто советское выражение, в нем проверенная временем традиция политической эпиграммы соединяется с фольклорными анималистическими образами и криминальным лагерным жаргоном[225]. Пользуясь прометеевской метафорой, можно сказать, что Мандельштам «похитил огонь» и в порыве озорства прочел эпиграмму пятерым своим близким друзьям. Дальше – известная история: один из друзей донес на него, и началось преследование Мандельштама[226]. Сначала был проведен обыск в доме поэта, затем – арест, допрос и ссылка в Воронеж, где Мандельштам проживал в ужасающих условиях – опустошенный и отрезанный от мира, страдающий от астмы и сердечных расстройств и опасающийся новых доносов и повторных арестов. Там в 1937 году, в разгар Большой чистки он написал «Оду Сталину» – поэтический гимн в традиции пиндарийской оды[227] великому вождю советского народа, отцу-Громовержцу с Кавказа[228]. Едва ли этот поступок стал беспрецедентным актом в истории взаимоотношений тирана/императора/великого лидера и стихотворца, – и он уж точно не являлся уникальным даже в подобных обстоятельствах. Когда стихотворение впервые появилось в печати, будучи анонимно переданным для публикации в американский журнал в 1976 году, – оно, казалось, нарушало образ поэта как мученика-диссидента, но это было связано с нерефлексирующим подходом к истории со стороны его читателей. На мой взгляд, нет необходимости почитать мартирологию, которая обычно приобретает подтекст христианского искупления; более важно понять трагическое измерение свободы и оценить нюансы истории, а также градации мужества и ответственности. В своих воспоминаниях супруга поэта Надежда Мандельштам рассказывает о необычном процессе сочинения стихотворения. Вопреки привычке Осипа Мандельштама сочинять стихи на ходу и вслух декламировать строки, он уединился, чтобы «сознательно поддаться общему гипнозу и заворожить себя словами литургии, которая заглушала в наши дни все человеческие голоса. ‹…› Взвинчивая и настраивая себя для „Оды“, он сам разрушал свою психику»[229]. Впрочем, стихотворение не следует воспринимать ни как нечто принципиально чуждое прочим произведениям Мандельштама, ни как целостную и неотъемлемую составляющую его потаенной мифологии. Я предлагаю скорее рассматривать его как трагическое подношение вождю и русской гражданской традиции, принявшей гротескную форму в эпоху сталинских чисток. Стихотворение завершается оскверненной жертвой поэта, похожей по структуре на жертвоприношения в греческой трагедии – жанре, который он хорошо знал и ценил.
Когда б я уголь взял для высшей похвалы – Для радости рисунка непреложной, – Я б воздух расчертил на хитрые углыИ осторожно и тревожно.Чтоб настоящее в чертах отозвалось,В искусстве с дерзостью гранича,Я б рассказал о том, кто сдвинул мира ось,Ста сорока народов чтя обычай.Я б поднял брови малый уголокИ поднял вновь и разрешил иначе:Знать, Прометей раздул свой уголек, – Гляди, Эсхил, как я, рисуя, плачу!Я б несколько гремучих линий взял,Все моложавое его тысячелетье,И мужество улыбкою связалИ развязал в ненапряженном свете,И в дружбе мудрых глаз найду для близнеца,Какого не скажу, то выраженье, близясьК которому, к нему, – вдруг узнаешь отцаИ задыхаешься, почуяв мира близость.И я хочу благодарить холмы,Что эту кость и эту кисть развили:Он родился в горах и горечь знал тюрьмы.Хочу назвать его – не Сталин, – Джугашвили!В этом «маниакальном» состоянии Мандельштам сочиняет странный текст – оду в сослагательном наклонении, в которой поэт надеется достичь – даже больше чем примирения – близости с самим великим вождем. Древесный уголь в стихотворении – это прометеевский инструмент: Мандельштам признается, что не умел рисовать, он мог лишь грезить. Так что здесь поэт-мастер представляет себя в роли начинающего художника. Он обращается к самому Эсхилу, так хорошо понимавшему хрупкость трагического театра и границы политической свободы, как к своему далекому адресату, чтобы тот засвидетельствовал его слезы.
Если эти стихи и звучат несколько неуклюже и выглядят не слишком понятными на английском языке, то это не из‐за неуклюжести[230] перевода: русский язык Мандельштама[231] сам по себе еще более странный, чем любая странность, которая доступна в английском языке. Его стиль порой напоминает «заумный» язык, который встречается в более ранних одах Мандельштама и в поэзии Велимира Хлебникова. Как ни парадоксально, странность заключается именно в том, что поэт не желает быть странным. Он хочет отказаться от остранения; в последнем приступе астмы он прилагает все усилия, чтобы почуять «близость» – к вождю и к советскому миру, перейти от тоски к принадлежности. Здесь просматривается искреннее отчаяние. Слова, относящиеся к «близости», повторяются чрезмерно, так что они начинают звучать как заклинание («близнеца ‹…› близясь ‹…› близость»). Поэт пытается вызвать в воображении близость – точку асимптотической тавтологии. По традиции принято сокрушаться о драме остранения, но здесь мы имеем ужасающий пример драмы принадлежности – попытки сближения с вождем.
Загадка таинственного «близнеца», личность которого поэт не раскрывает, занимает странное место в середине текста оды. В произведении Мандельштама присутствует поразительное множество двойников: Прометей-Зевс, Мандельштам-Сталин, Сталин-Джугашвили (настоящая фамилия Сталина), Сталин и его двойник, сотворенный «Одой». Мандельштам даже оспаривает собственное отцовство – как создателя оды – и настаивает на том, что подлинным эпическим певцом эпического вождя должен быть «Народ-Гомер»[232]. Подобная ситуация стала бы самоубийством писателя[233], упраздняя за ненадобностью роль поэта как самостоятельной личности[234], владеющей прометеевской τέχνη; он превратился бы в банального «автора-продюсера», которого можно было в любой момент запретить в этой не-слишком-платоновской[235] республике.
Быть может, загадочный «близнец» у Мандельштама – это писатель-самозванец, франкенштейновский отпрыск этой невозможной поэтики близости? В конечном итоге ода так и не позволила поэту обрести близость с вождем, но она породила двойников и чудовищ, подобных тем, что изображены на рисунках Гойи, в которых поэт с трудом узнавал самого себя. Тем не менее это не просто из ряда вон выходящее стихотворение, написанное по случаю. Посредством трагической мимикрии стихотворение подражает μανίες времени и воспроизводит описанное Надеждой Мандельштам состояние гипноза – состояние, предшествовавшее действию массового заклятия и торжеству эйфории принадлежности. Мандельштам пытался раздвинуть границы искренности – с тем, чтобы прикоснуться к тому, что он называет самой «правдивой правдой», которая может полностью исключить потребность в поэзии: «Правдивей правды нет, чем искренность бойца». Проблема здесь в том, что почти каждое из «правдивых» предложений является либо цитатой из классических произведений русской поэзии, либо из лозунгов Сталина. Любая самая «правдивая правда» напоминает о трюизмах той эпохи.
Будто погружая себя в состояние гипноза, Мандельштам становится поэтической машиной социалистического реализма, которая декламирует, крича и задыхаясь, готовые предложения, устоявшиеся эпитеты и рифмы, такие как клятва и жатва, без четкой причинно-следственной связи между ними, – все это, удивительным образом, дает нам понять – как на самом деле выглядит оргиастический ποίησις социалистического реализма. Неуместность или даже логические противоречия – такие же характерные черты эстетики социалистического реализма, как и телеологическая – основной сюжет[236], [237]. Это была неуместность, основанная на страхе. Именно поэтому порой «Ода Сталину» воспринимается как посредственное сочинение Мандельштама, а иногда – как шаманское заклятие или мантра, сотканная из клише «банальности зла». Вспомним тот афоризм Кафки, где обнаженный свет истины падает на гротескную маску трагического или комического актера. В заключительной части «Оды» мандельштамовская самая «правдивая правда» и его предельная искренность продолжают оставаться не менее таинственными, чем у Кафки.
Поэтический ландшафт стихотворения выглядит эпическим и советским – преобразованным в соответствии с образом грандиозного великана-вождя, способного двигать горы. В реальности же едва ли что-то разделит вождя и его народ. Подобный тип широкомасштабного социального ландшафта был описан Ханной Арендт как разрушение театральной архитектуры общественной сферы. По мнению Арендт, тоталитаризм начинается с уничтожения пространства общественной свободы со всеми его крошечными перегородками, разделяющими гражданское общество, и со всем множеством каналов коммуникации: «Убрать все преграды закона между людьми, как это делает тирания, – значит отнять у человека его законные вольности и разрушить свободу как живую политическую реальность»[238]. Тоталитаризм, по описанию Арендт, состоит в «объединении людей „железом и кровью“ террора, уничтожающего всякое их многообразие и превращающего многих в неколебимого Одного»[239]. Все это выливается в особую форму сближения с террором[240].
Здесь стоит вспомнить о том, что Арендт различает изоляцию (разобщенность, в которой индивид пребывает в тоталитарном обществе эпохи модерна или на закате эпохи империй, – состояние, которое уничтожает внутренний плюрализм личности и не позволяет вступать во внутренний диалог) и одиночество, которое является состоянием, необходимым для активизации жизни ума и конфликта между совестью и сознанием, а также прочими внутренними δαίμων. Это и есть внутренняя драма стихотворения: силясь вырваться из состояния изоляции посредством обретения близости и принадлежности, поэт ставит под угрозу собственное поэтическое одиночество, внутренний плюрализм и диалог с мировой культурой[241]. Так, стремление к радикальной принадлежности приводит к радикальному отчуждению.
Дж. М. Кутзее проницательно писал об особом типе отчуждения, который создает «Ода» Мандельштама: «Результат, которого достиг Мандельштам посредством того, что я называю остранением, а его жена называла разрушением психики, является поистине вопиющим: он смог изготовить пустую оболочку тела Оды, не вдохнув в нее жизнь»[242]. По словам Кутзее, поэт вопреки всему пытался «не отдать инструмент» – прометеевский уголь – пытается удержать свою τέχνη, несмотря на собственную μανία. Кутзее обращается к остранению Шкловского, но, на мой взгляд, форма отчуждения, с которой мы здесь имеем дело, является полной противоположностью поэтике остранения, существующей во имя мирового чуда. Бездомный поэт чувствует себя как дома в пространстве художественного остранения и космополисе мировой культуры. Его психическое и экзистенциальное отчуждение вызвано страхом утратить пространство для остранения поэтического.
Трагедия – это не только один из подтекстов «Оды»; она привносит в произведение другое пространство памяти мировой культуры – пространство, в котором обсуждались границы полиса и власти вождя. Пространство трагедии очерчено стихами 1937 года и обстоятельствами жизни и смерти поэта в 1937–1938 годах. Трагический герой здесь – не Прометей, а сам поэт, который, несмотря на свое жертвенное рвение в «Оде», не попадает в цель. «Трагический изъян» кроется не в характере самого поэта, не в стихотворении, а во взаимоотношениях между человеком и государством и в трудностях тоталитарного бытия, которое стремится полностью исключить любую возможность негосударственного театра. Поэт использовал все свои прометеевские навыки, технику рисунка углем и все гипнотические силы, присущие μανία Диониса, – но так и не смог достичь поставленной цели. Надежда Мандельштам пророчески сказала (не зря ее называли Кассандрой), что стихотворение не спасло Осипа Мандельштама, но, возможно, помогло спасти ее. Она могла уничтожить «Оду», но сберегла текст произведения, – чтобы рассказать о жизненных трагедиях, во власти которых тогда оказались люди, и о множестве смертей, которые им угрожали.
Оглядываясь назад, мы не удивляемся, что «Ода» не спасла Осипа Мандельштама. Кажется, что сама идея попытки Мандельштама убедить тоталитарного вождя в его любви к нему не могла быть эффективной, потому что, как всегда, были другие «тонкошеие вожди» – более сталинские, чем сам Сталин. Вернувшись из ссылки в Москву, Мандельштам посещал многих деятелей литературы и появлялся в Союзе писателей, читая свою «Оду Сталину» и прося реабилитации и помощи или, по крайней мере, возможности вести относительно нормальную жизнь. Ему мало кого удалось убедить. Официально признанный писатель Павленко[243] заключил, что в стихотворении хоть и было несколько хороших и искренних строф, но этого было явно недостаточно[244]. Генеральный секретарь Союза писателей донес на поэта Николаю Ежову[245], наркому НКВД (тайной полиции), заявляя, что «в части писательской среды весьма нервно обсуждался вопрос об Осипе Мандельштаме». Мандельштама снова арестовали. Сталин позвонил Пастернаку, лично задав вопрос, является ли Мандельштам «мастером», но Пастернак оказался настолько ошеломлен телефонным звонком, что попросил Сталина обсудить жизнь и смерть вообще, а не жизнь и деятельность Мандельштама в частности[246]. Мандельштаму, возможно, было бы лучше спрятаться где-нибудь в глубокой провинции, как это сделал Михаил Бахтин, и просто держаться подальше от посторонних глаз в период политических чисток. Но ни сам поэт, ни многие люди его круга не обладали подобной дальновидностью. Осип Мандельштам скончался на пересыльном пункте ГУЛАГа в 1938 году, один из примерно 18 миллионов человек[247], прошедших через лагеря. Поэт был увековечен в народной песне узников ГУЛАГа: «А нам читает у костра Петрарку / Фартовый парень Оська Мандельштам»[248].
Тоталитарные режимы не жаловали произведения трагических жанров и предпочитали моралистические романы и веселые мюзиклы. «Жить стало лучше, жить стало веселее». Жертвы были реальными, но происходили за кулисами зрелищной театрализованной постановки в духе социалистического реализма.
Надежда Мандельштам считала, что отчуждающий эксперимент Мандельштама в поэтике советской близости не прошел даром. Она заметила, что «есть цикл, маткой которого была насильственная „Ода“, но она не выполнила своего назначения и не спасла О. М. Из „Оды“ вышло множество стихов, совершенно на нее непохожих, противоположных ей, как будто здесь действовал закон об отдаче пружины»[249]. Метафора Надежды Мандельштам об отдаче пружины напоминает нам о зигзагах Варбурга и змеином танце, а также о набоковском образе спирали, которая есть «одухотворение круга», открывающее путь к со-творческим произведениям – в противовес очередным повторам. Для Набокова фигура спирали является ключом к пониманию концепции мимикрии – не как коллаборационизма или тавтологии, а как таинственной маскировки и творческого обмана законов природы и истории[250]. В других своих стихах 1937 года Мандельштам переносит свою мимикрию и μανία в пейзаж мировой культуры. Стихотворение «Где связанный и пригвожденный стон?…», написанное в тот же период, что и «Ода», повествует о том, что осталось от голоса Прометея.
Где связанный и пригвожденный стон?Где Прометей – скалы подспорье и пособье?А коршун где – и желтоглазый гонЕго когтей, летящих исподлобья?Тому не быть – трагедий не вернуть,Но эти наступающие губы – Но эти губы вводят прямо в сутьЭсхила-грузчика, Софокла-лесоруба.Он эхо и привет, он веха, – нет, лемех…Воздушно-каменный театр времен растущихВстал на ноги, и все хотят увидеть всех – Рожденных, гибельных и смерти не имущих[251].Поначалу может показаться, что здесь мы пребываем в мире забвения Кафки, но сама диалогическая форма стихотворения возвращает нас к внутренним диалогам поэта, а также к теням и жестам другого – еще не советского – трагического театра. Императив «наступающих губ» не дает поэту умолкнуть. Советской риторики и «Народа-Гомера» в этом стихотворении нет. Скорее мы вернулись к хрупкой архитектуре мировой культуры, построенной из воздуха и камня, которая присутствует в большинстве поэтических произведений Мандельштама. «Воздух» напоминает нам о другой метафоре Мандельштама: поэзия при авторитарном режиме – это либо «мразь», либо «ворованный воздух»[252] – воздух свободного города или Respublica literaria. Театр Эсхила сохраняется в ворованном воздухе воображения поэта в последний год его жизни. Панегирик трагедии у Мандельштама, как ни удивительно, более оптимистический, чем у Кафки. Он признает, что «трагедий не вернуть», но не допускает разрушения ее хрупких театральных подмостков. Диалогические голоса стихотворения воссоздают пространство громких отголосков и реликтовых трагических образов. Нечто большее, чем просто скала, – сама память о театре – продолжает оставаться единственным местом, где «почву истины» можно узреть сквозь призрачные тени.