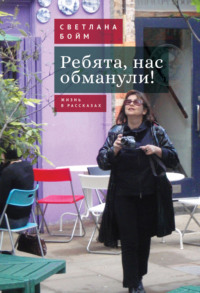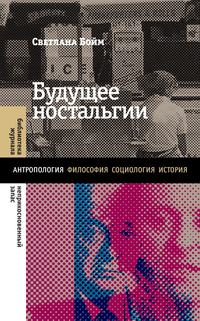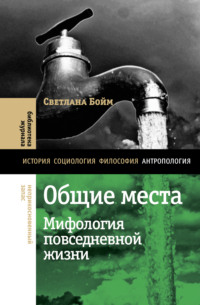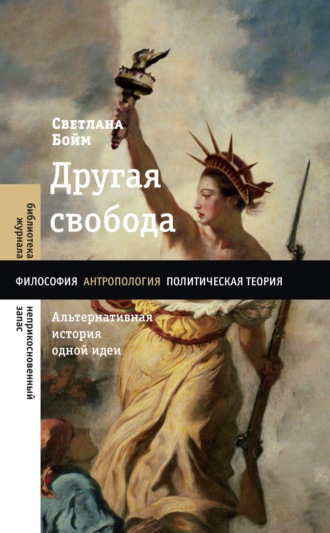
Полная версия
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
Глава третья. Освобождение с березовыми розгами и банальность терроризма
Модерн/Антимодерн: Диалоги Достоевского
Политическая свобода есть мнимая свобода, худший вид рабства; она лишь видимость свободы и поэтому в действительности – рабство[380].
Фридрих Энгельс[381]В самом деле: провозгласили вскоре после него: Liberté, égalité, fraternité. Очень хорошо-с. Что такое liberté? Свобода. Какая свобода? Одинаковая свобода всем делать все что угодно в пределах закона. Когда можно делать все что угодно? Когда имеешь миллион. Дает ли свобода каждому по миллиону? Нет. Что такое человек без миллиона? Человек без миллиона есть не тот, который делает все что угодно ‹…› Поймите меня: самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование ‹…› есть, по-моему, признак ‹…› высочайшего самообладания, высочайшей свободы собственной воли.
Федор Достоевский[382]Что же получается, когда мы представляем себе политическую свободу как завуалированное порабощение и полагаем, что модернистский опыт сам по себе является карнавалом неискренности и фантасмагории? Как далеко мы готовы зайти в погоне за радикальным освобождением и какое количество насилия и жертв потребуется для достижения этой цели? Какова цена неоскверненного жертвоприношения[383] и оправдывает ли цель средства? И, в конечном счете, как эта борьба во имя радикального освобождения и против демократических политических свобод и публичной сферы связывает тех, кто, казалось бы, меньше всего похож на потенциальных союзников: представителей левого и ультраправого флангов – тех самых провозвестников социалистического атеизма и пророков новообретенной религии, обитающих в произведениях Ф. М. Достоевского?
Некоторые из этих вопросов кажутся сугубо современными, но на самом деле они широко обсуждались еще в середине XIX столетия. После краха революций 1848 года в Европе многие политические деятели, писатели и интеллектуалы испытывали разочарование в лозунгах Французской революции, liberté, égalité и fratemité, та же участь постигла и идеологию общей либерализации. В то время как основные преобразования в сфере политической либерализации: отмена крепостного права в России (1861) и отмена рабства в Соединенных Штатах Америки (1862) произошли с разницей во времени всего лишь в один год, появилось новое понимание того, что одни лишь голые политические свободы еще не задают систему координат счастья. Так, более радикальная версия свободы появилась у всех: от левых до правых, – освобождение человеческого рода посредством окончательного спасения в раю: у одних – на земле, а у других – на небесах. Пространство этой свободы перестало быть частью общественной или частной сферы, а стало принципиально иным миром. Пресловутые политические права, едва лишь обретенные и обеспеченные в ряде европейских стран, внезапно стали казаться буржуазными, недостаточными и почти устаревшими; казалось также, что преграды и перегородки, из которых состояла хрупкая архитектура публичной сферы, вот-вот рассыплются, подобно карточному домику – символу азартных игр буржуазии. В Российской империи сложилась поистине впечатляющая ситуация, поскольку там радикальные дискурсы борьбы за освобождение варьировались в диапазоне от анархизма до популизма, от социализма до славянофильского утопизма, – и все эти направления развивались в контексте абсолютной монархии. Если в случае Европы можно говорить о кризисе либерального мышления, разочаровании в политике парламентаризма и развитии индустриального капиталистического общества, то в России критика демократических свобод имела место в значительной степени в долиберальном обществе (с весьма ограниченным набором гражданских прав, предоставленных после реформы 1862 года). В то же время русские писатели, а впоследствии и отдельные политики помышляли об использовании этой местной отсталости в своих интересах и видели себя в авангарде европейского либерализма. Они поступали так во имя творческого возмездия и с характерным комплексом превосходства-и-неполноценности. В конечном счете они мечтали догнать и перегнать Запад и освободить Запад от самого себя. Подобные чаяния все еще продолжают жить и в XXI столетии.
Ядром моего исследования станет концепция, которую Достоевский называл тем, что «свободнее настоящей свободы», – то, что он представлял себе на каторге и развил затем в литературное и политическое подполье, в которое вошли писатели, политические радикалы и те, кто в XIX веке именовали себя террористами. Временами, то, что «свободнее настоящей свободы», оказывается своего рода фотонегативом архитектуры открытости миру и публичной свободы; оно наделено властью божественного закона и несет «злорадные ощущения наслаждения» страданиями. Поиски свободы будут включать в себя пересечение границы между Востоком и Западом и пересмотр культурных различий. Путешествуя с Достоевским на восток в Сибирь, а затем на запад в Европу (через подполье), мы встретим странных попутчиков – Карла Маркса, Шарля Бодлера, Леопольда Захер-Мазоха и Михаила Бакунина, которые предлагали различные образы фантасмагории модерна, диалектики взаимоотношений господин – раб и мечты об освобождении. Заранее представляя себе актерский состав наших персонажей, а также по-своему восхитительный и взрывной характер каждого из них, – можно вообразить, что их реальное столкновение друг с другом в городской толпе или в поезде едва ли обернулось бы чем-либо кроме взаимного раздражения. Соответственно, мы сосредоточимся исключительно на виртуальных встречах, что и даст нам возможность обозреть плацдарм радикальной свободы эпохи модерна с различных точек зрения.
По мнению русского критика и философа Михаила Бахтина[384], романы Достоевского открывают для нас уникальную литературную форму и вместе с ней образ особого состояния человека, в котором диалог является не средством для достижения цели, а самоцелью, формой нескончаемого и творческого человеческого общения. Этот диалог освобождает, потому что речь идет о том, чтобы быть вместе с другим, совместно переживать радость и удивление[385]. Множественность голосов или гетероглоссия[386] у Достоевского возникает не просто на уровне персонажа, но входит в глубинную архитектонику языка и общения, раскрывая внутреннюю словесную множественность, которая является глубоко антиавторитарной[387]. Творческое прочтение Достоевского Бахтиным звучит именно как философия свободы. Но какова природа личного диалога философа с Достоевским? Не является ли анализ текстов Достоевского лишь предлогом для свободолюбивой полемики самого Бахтина?
Замечания Ханны Арендт о природе творческого метода Достоевского, основанного на диалогах, идут по пути иного толкования. Отрывистые заметки к лекциям о романе «Бесы» – это буквально все, что мы знаем о ее прочтении Достоевского, тем не менее они невероятно суггестивны:
Пожалуйста, помните об уникальной форме диалога в этих романах [Достоевского]: будто оголенная душа говорит с оголенной душой. Это близость, достигающая телепатии, то есть упразднение любых расстояний; на любую высказанную реплику следует ответ: я уже знал это ‹…› По сравнению с близостью подобной силы, западное цивилизованное общество выглядит лицемерным, полным лжи; все внешние проявления здесь незамедлительно приводят к сокровенным глубинам души. Внешний облик, ни при каких обстоятельствах, не является фасадом.
Тем не менее важнее всего здесь следующее: мир как объективная система координат здесь каким-то образом отсутствует. У него нет описания, он – не предмет для обсуждения; следовательно, множество точек зрения, с которых можно было бы обозревать это пространство (Бальзак), попросту отсутствует. Темой здесь является не мир, а некая высшая конечная цель.
Близость может достигаться только по отношению к своему собственному народу[388].
Там, где Бахтин увидел уникальную творческую «архитектонику» диалога, в центре которой находится человек, Арендт обнаружила телепатическое, интимное общение, которое может привести к утрате открытости миру и общественной сферы. Она заметила, что у Достоевского есть две стороны «близости», в частности, когда она достигается «по отношению к своему собственному народу» (т. е. русскому народу, в данном случае), такая близость создает интенсивные и мощные отношения между людьми, но может также поставить под угрозу открытую миру архитектуру фасадов, площадей и общественных пространств во имя достижения «конечной цели». Телепатическое общение может стать монологической проекцией; растворяя расстояния, оно способно в конечном итоге ликвидировать различия, отбрасывая как внутреннюю множественность, так и плюрализм. Ее краткие заметки бросают вызов основательно укоренившейся западной традиции XX столетия – от экзистенциалистов до Эммануэля Левинаса, если обращаться к недавнему времени, – всем тем, кто почитает Достоевского как великого гуманиста и мыслителя с выраженной этической позицией[389]. Вот, быть может, и пришло время осмыслить радикальную национально-освободительную этику?
Бахтин считал Достоевского-романиста Прометеем эпохи модерна, который позволил героям своих сочинений свободно вступать в диалог с самим автором и ему противоречить: «Достоевский, словно Прометей Гете, создает не немых рабов, как это делает Зевс, а свободных людей, способных занять место рядом со своим создателем, не соглашаться с ним, а также отворачиваться от него»[390]. Как мы помним, Прометей – персонаж античной трагедии и стихотворения Гете – учит людей мимолетным искусствам свободы. Греческий титан превратил ритуал жертвоприношения в дебаты, которые бросают вызов божественному началу, а не слепо ему подчиняются. И все же в своих произведениях, не относящихся к жанру романа, особенно в журнале «Дневник писателя»[391], Достоевский посягает на прометеевские свободы человека эпохи модерна, выступая за добровольное смиренное подчинение и новую форму жертвоприношения, которая искупает всю растленность секулярного века. Более того, в своих политических взглядах Достоевский является сторонником абсолютной монархии и царя/Зевса и разыгрывает совершенно иной сценарий власти. Есть ли тогда противоречие между многоголосыми романами Достоевского и его явными идеологическими позициями, изложенными в «Дневнике писателя»? Иными словами, возникает вопрос – наличествует ли здесь продуктивный и содержательный диалог между (свободной) литературной формой и (консервативно-освободительной) политикой и религией? Или более значительный внутренний диалог, являющийся глубинной частью личности Достоевского, – ставит под вопрос диалогическую терпимость как таковую? Какова взаимосвязь между риторикой общения и риторикой обращения[392], между нескончаемым диалогом и бесконечной круговертью ресентимента, между открытой миру человеческой театральностью и высшими идеалами абсолютной близости в рамках национального сообщества?
Более того, в своих книгах (особенно в романе «Бесы») Достоевского куда более увлекают дионисийские мании и оргии, нежели прометеевский опыт. Творчество и жизнь самого Достоевского не остались в стороне от трагических противоречий: он был одним из самых модернистских писателей XIX столетия, новатором европейского романа, расширившим его физическое пространство и метафизический диапазон и поставившим спектакль кризиса личности эпохи модерна в декорациях разочарованного мира тревожных идеалов. Вместе с тем он является и откровенно антимодернистским писателем, который в последние годы своей жизни искренне восхищался утопическим образом русской общины и превозносил абсолютную, дарованную Богом царскую власть. Достоевский – антимодернист эпохи модерна, одновременно склонный к диалогу и авторитарный. Он мастерски использует формы европейского романа, чтобы разжигать войну между Россией и Европой – с тем, чтобы навсегда изменить Запад, прокручивая его туда и обратно сквозь сознание своих незабвенных персонажей. Его по праву можно считать одним из величайших антизападников в западной традиции.
В центре моего повествования будут заметки и рассказы Достоевского, в частности трилогия «Записок»: «Записки из Мертвого дома» – реализованное в формате художественной литературы повествование писателя о его жизни в сибирском остроге[393]; «Зимние заметки о летних впечатлениях» – театрализованное автобиографическое путешествие в Европу через русские культурные мифы; и «Записки из подполья» (1864), откровенно вымышленное повествование о размышлениях петербургского парадоксалиста[394] по поводу его добровольной самоизоляции.
У меня получилась своего рода драма в семи актах с повторяющимися темами. Я сосредоточу внимание на альтернативной архитектуре – той, что «свободнее настоящей свободы», – о которой грезили в остроге и в подполье, и на том, как она формирует отношение к закону, политике и насилию (где порой исчезают различия между телесными наказаниями и домашним насилием, наслаждением болью от членовредительства и деятельностью пенитенциарной системы Российского государства). Среди последствий возведения подобного рода архитектуры будет рассмотрена роль физического насилия в творчестве Достоевского с последующей трансформацией политического насилия в философию страданий, которая становится свидетельством аутентичности и фундаментом, на котором зиждутся моральные авторитеты. Особое место в рассмотрении этих вопросов принадлежит извращенному восхвалению порки и «злорадных ощущений наслаждения», связанных с болью, что сближает Достоевского с Захер-Мазохом. Совершая путешествие вглубь и вверх, в поисках того, что «свободнее настоящей свободы», мы будем продвигаться в западном направлении и исследовать точки соприкосновения Достоевского, Бодлера и Маркса с городским пространством эпохи модерна, а также их размышления о модернистской театральности и фантасмагории. Наконец, мы рассмотрим политические последствия злорадных ощущений наслаждения, связанных с болью, и столкнемся с героями «романа-памфлета» Достоевского «Бесы», в котором дается беллетристический взгляд на такое историческое событие, как суд над самопровозглашенным террористом Сергеем Нечаевым – учеником известного анархиста Михаила Бакунина – и демонстрируется анатомия заговора радикального освобождения. В романе с отголосками «Вакханок» Еврипида автор выстраивает впечатляющий образ террориста – человека, представляющего собой вдохновенное клише, «мелкого беса», а вовсе не великолепного полубога, который тем не менее способен нанести грандиозный ущерб. Подобный вдохновенный образ повседневной мелочности подстрекателя-террориста может, в свою очередь, стать вдохновляющим образцом для автора-романиста XXI столетия.
В последние годы жизни Достоевский возвращается к своим истокам и заново переписывает то, что свободнее настоящей свободы, и свои переживания в «Записках из Мертвого дома», «вспоминая» собственное обращение в религию русской общины через своего персонажа – мужика Марея[395]. Он обещает примирение, лекарство от модернистского остранения и искоренение трагических противоречий бытия в эпоху модерна.
В остроге как-то свободнее настоящей свободы
«Вот конец моего странствования: я в остроге! – повторял я себе поминутно, – вот пристань моя на многие, долгие годы, мой угол, в который я вступаю с таким недоверчивым, с таким болезненным ощущением… А кто знает? Может быть, – когда, через много лет, придется оставить его, – еще пожалею о нем!..» – прибавлял я не без примеси того злорадного ощущения, которое доходит иногда до потребности нарочно бередить свою рану, точно желая полюбоваться своей болью, точно в сознании всей великости несчастия есть действительно наслаждение. ‹…› вследствие мечтательности и долгой отвычки свобода казалась у нас в остроге как-то свободнее настоящей свободы, то есть той, которая есть в самом деле, в действительности[396].
Федор Достоевский. Записки из Мертвого домаМожно ли тосковать по ставшему домом острогу и воображать свободу, которая «свободнее настоящей свободы», находясь в положении ограничения и изоляции? «Записки из Мертвого дома» – это парадоксальная проза, которая представляет собой впечатляющее осуждение российской пенитенциарной системы и анатомию «злорадного ощущения наслаждения» – удовольствия, которое превращает исправительную колонию в духовный дом, который свободнее настоящей свободы.
Достоевскому выпала особая участь – пережить смерть несколько раз. Он был арестован как участник кружка петрашевцев – группы, участвовавшей в полемике о европейском социализме, демократических реформах и отмене крепостного права в России, члены которой были помещены в Петропавловскую крепость в Санкт-Петербурге, а затем приговорены царем к «гражданской казни» (т. е. лишению всех прав гражданина и члена дворянского сословия), за которой должна была последовать реальная смерть – расстрел. Писателя и его товарищей привезли на Семеновский плац в Санкт-Петербурге, где их заставили встать на колени перед своими палачами, которые переломили над их головами шпаги, совершая ритуал гражданской казни. Достоевский, стоявший во второй группе осужденных, видел, как солдаты подошли к столбу и вскинули винтовки, готовясь стрелять в заключенных. В самый последний момент, когда над Петербургом взошло солнце, случилось нечто невероятное: посланец царя прибыл на место казни, объявив об императорском помиловании. Царь с самого начала и до финала лично дирижировал этим постановочным зрелищем «невоплощенной казни», получая возможность вселить ужас и извращенную благодарность в сердца своих избранных бывших противников. После фальшивой казни последовало фальшивое воскресение, дарованное царем. Приговор писателя был заменен на каторжные работы в сибирском остроге[397].
В письмах своему брату Михаилу Достоевский выражает глубокую тревогу по поводу еще одной потенциальной смерти после его «гражданской казни», а именно – смерти как писателя: «Если нельзя будет писать, я погибну. Лучше пятнадцать лет заключения и перо в руках». Достоевский пишет, что в его сознании – множество неосуществленных проектов и «еще не воплощенные» (не полностью воплощенные) образы. Так, опыт невоплощенной казни сопровождался этой невоплощенной смертью писателя. Как замечает Нэнси Руттенбург[398], писатель оказался в состоянии «глубокого остранения» – «conversio interrupta, при котором процесс перерождения становится затяжным и бессрочным»[399]. «Записки из Мертвого дома» являются беспрецедентным примером документальной прозы, которая стремится обратить вспять гражданскую казнь писателя через процесс написания и публикации текста. Композиция «Записок» является формой самоосвобождения и писательского воскрешения. Они оформлены в виде повествования от лица двух вымышленных рассказчиков: учтивого дворянина, слова которого предваряют основной текст, и непосредственно автора тюремных воспоминаний – Горячникова, который, в отличие от самого Достоевского, является вовсе не политическим заключенным, а обыкновенным убийцей, виновным в лишении жизни собственной супруги. Манера письма Горячникова прямая, искренняя, но не сентиментальная, без парадоксального юмора и диалоговых экспериментов, характерных для более позднего романического стиля Достоевского. Обилие многоточий и разрозненность воспоминаний Горячникова отражают саму природу остранения и ужас тюремного опыта. Летописец здесь выступает вовсе не в роли человека ресентимента, каким мог бы являться, к примеру, Подпольный человек; он – выживший и остраненный наблюдатель, который нигде не позволяет себе присутствия излишнего самоедства и злобы. Двадцать лет спустя Достоевский попытался преодолеть этот разрыв остранения и переписать свой тюремный опыт в свете своего обращения в верование русской общины, которое обязывает к страданиям и самопожертвованию. В этом первоосновном тексте есть пробелы в повествовании и смутные сны, и нигде не встречается ни единого упоминания о легендарном мужике Марее, который стал источником духовного воскрешения писателя. Вместо этого произведение посвящено противоречиям злорадных ощущений наслаждения, двойственной взаимосвязи между жертвой и палачом и парадоксам свободы в этом «живом аду» сибирской пустоши. Заточение в острог и угроза физического насилия сочетаются с ментальными пытками, лишением частной жизни, тяжелым для любого человека, но в особенности для политических ссыльных, которые не могут отступить даже в пространство крепости своей внутренней свободы. Архитектура каторги становится интернализованной, формируя пространство мечтаний ссыльных. Через сотню лет после Достоевского заключенные советского ГУЛАГа – в диапазоне от Варлама Шаламова до Евгении Гинзбург и Александра Солженицына – будут вспоминать «Записки из Мертвого дома»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Здесь используется пара, составленная из выражений «what if» («что, если») – «what is» («что есть»). Словосочетание «What if», указывающее на манящую загадочную потенциальную возможность чего-либо, получило значительное распространение в англоязычной популярной культуре и в различных субкультурах. Одним из ярких примеров может служить широко известная одноименная серия комиксов компании «Марвел» («Marvel»). Книжки из серии «Что, если» («What if») публиковались в издательстве «Марвел Комикс» в 1970–1990‐х годах. В них персонажи из вселенной «Марвел» оказывались в необычных условиях альтернативных вселенных, встречались с новыми невиданными героями и злодеями и оказывались в таких локациях и мирах, в которых не смогли бы очутиться в основной сюжетной линейке серии. Также в этих комиксах нередко рассматривались альтернативные версии, на первый взгляд противоречащие магистральному нарративу студии и как бы находящиеся по отношению к нему в сослагательном наклонении. Например: «Что, если бы Воитель не уничтожил Живой Лазер?» («What If War Machine Had Not Destroyed the Living Laser?») или «Что, если бы Карен Пейдж осталась жива?» («What If Karen Page Had Lived?») и т. д. Данная серия может служить замечательной поп-культурной иллюстрацией к концепции «офф-модерна», которую в своих теоретических и художественных работах развивала Светлана Бойм. – Прим. пер.
2
В оригинальном тексте в данном месте применяется словосочетание «passionate thinking». Здесь и далее для перевода этого понятия (нередко встречающегося также в программных англоязычных текстах, переписке и воспоминаниях Ханны Арендт) будет использоваться словосочетание «пылкое мышление». Для автора здесь важно подчеркнуть особый момент страстности, пылкости, вовлеченности мыслителя – специфику работы его сознания и действие бессознательного. В некотором роде данная концепция перекликается с принципом «пылкого воображения», сформулированным русским психиатром, невропатологом и физиологом Владимиром Михайловичем Бехтеревым (1857–1927). Ученый писал: «Кроме сознательных процессов ‹…› воспринимаемых нашим „я“ как нечто субъективное, в нас существуют и бессознательные процессы, которые нами вовсе не воспринимаются как таковые. Это устанавливаемое внутренним опытом отличие сознательных психических процессов от бессознательных и дает возможность сделать точное определение сознания. И как показывают наблюдения, великие творцы обязаны гораздо более бессознательной, нежели сознательной сфере. Например, некоторые поэты и художники, обладающие пылким воображением, отличаются особой живостью представлений, необыкновенной яркостью их. ‹…› в сущности мы не знаем точных границ бессознательной сферы… Поэтому сознание может быть уподоблено яркому светильнику, который озаряет собою глубокие тайники нашей психической сферы». См.: Бехтерев В. М. Мозг и разум: физиология мышления. М.: АСТ, 2020. В русских переводах трудов Арендт словосочетание «passionate thinking» зачастую переводится как «спекулятивное мышление», что во многом связано с ее исследованиями в сфере философии познания Канта, Гегеля и Хайдеггера. – Прим. пер.
3
В оригинальном тексте здесь игра слов «common ground» – «uncommon». – Прим. пер.
4
Здесь в оригинальном тексте термин «storytelling». В последнее десятилетие в русский язык транслитерированный термин «сторителлинг», как и многие термины, связанные с рыночной экономикой, вошел в качестве определения одного из маркетинговых приемов. Проектная цель сторителлинга: увеличение продаж для целевых групп покупателей с помощью «рассказывания историй» (прежде всего с применением всевозможных медиа) – создание и внедрение на рынке эффективной мотивации к требуемому от субъекта (представителя целевой группы) действию. – Прим. пер.