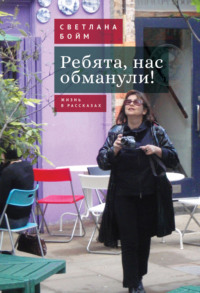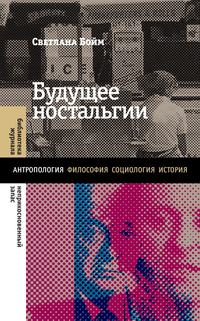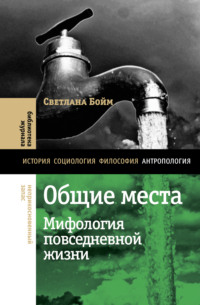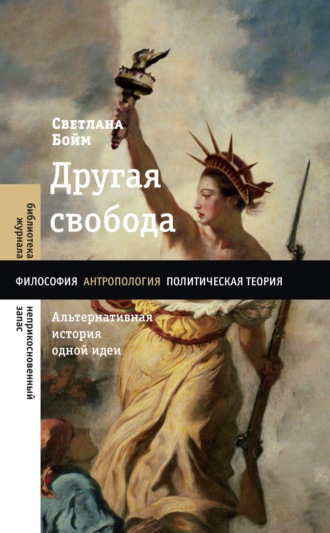
Полная версия
Другая свобода. Альтернативная история одной идеи
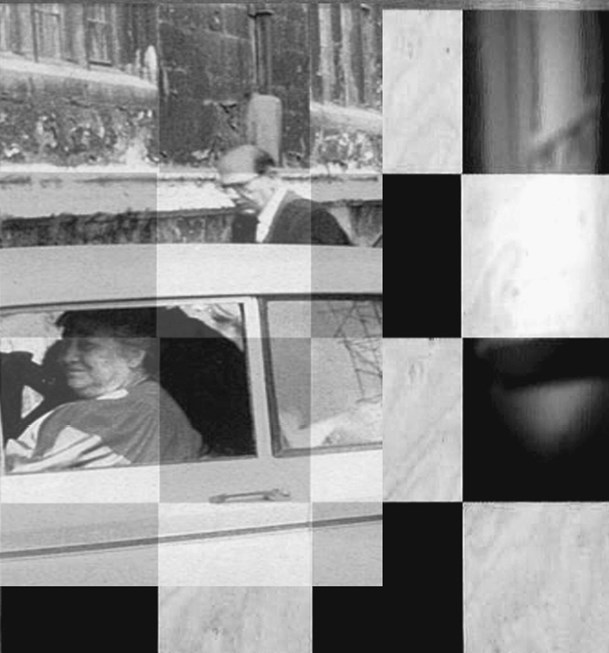
Рис. 8. Светлана Бойм. Шахматный коллаж с фрагментами единственного сохранившегося снимка, на котором изображены Исайя Берлин и Анна Ахматова, сфотографированные в Оксфорде неизвестным автором в 1962 году
Последнее стихотворение Мандельштама с воспоминанием о Прометее повествует вовсе не о похищении огня, а о краже воздуха для поэзии. Глядя назад – сквозь призму Мандельштама – на Сизифа Камю и Прометея Кафки, мы приходим к пятой версии притчи: в «темные времена» непроясненность – это далеко не обыкновенная тьма; это пространство может оказаться территорией сияния и новаторской игры теней, – пока оно способно генерировать истории. Повторять эту версию вновь и вновь, – совершать это подобие сизифова труда, возможно, – последняя оставшаяся надежда для поэта, обитающего в кафкианском мире, созданном сталинским воображением. Быть может, представить себе счастливого Сизифа – это наш собственный долг перед Мандельштамом.
Глава вторая. Политическая и художественная свобода в межкультурном диалоге
Множественность или плюрализм? Свобода/Воля/Freedom
О чем мы вечно грезим и что помогает нам выживать: духовная, художественная или политическая свобода? Можно ли соединить воедино красоту и свободу? Всегда ли для этого нужны прилагательные, указывающие на национальную принадлежность, – такие, как русская красота и американская свобода, – или они неподвластны этим прилагательным и при переводе на другой язык только выигрывают?[253]
«Не должно ‹…› представлять себе область культуры как некое пространственное целое, имеющее границы, но имеющее и внутреннюю территорию. Внутренней территории у культурной области нет: она вся расположена на границах, границы проходят повсюду, через каждый момент ее», – писал русский философ и литературовед Михаил Бахтин[254]. Бахтин, таким образом, предлагает нам воспринимать нашу собственную культурную почву как пограничную зону, пространство сотворчества и живую коммуникационную среду, а не замкнутую, самодостаточную систему. Ибо здесь есть разница между границей, понимаемой как линия разграничения, и границей, которая является скорее зоной соприкосновения. Искусство свободы – это не только умение превратить границу в рубеж, но и признать архитектуру внутренних ограничений, которые невозможно просто отменить. В этой главе рассматриваются вопросы культурного плюрализма и внутренней множественности – посредством рассмотрения дискуссионных вопросов, касающихся России и Америки, а также посредством погружения в более глобальные вопросы, касающиеся критики Просвещения и взаимоотношений между свободой и освобождением.
Почти за сто лет до начала холодной войны французский философ и политик Алексис де Токвиль[255] сделал пророческое высказывание о двух великих нациях, которые определят ход истории и судьбу свободы в эпоху модерна.
В настоящее время в мире существуют два великих народа, которые, несмотря на все свои различия, движутся, как представляется, к единой цели. Это русские и англоамериканцы. ‹…› Американцы преодолевают природные препятствия, русские сражаются с людьми. Первые противостоят пустыне и варварству, вторые – хорошо вооруженным развитым народам. Американцы одерживают победы с помощью плуга земледельца, а русские – солдатским штыком. В Америке для достижения целей полагаются на личный интерес и дают полный простор силе и разуму человека. ‹…› В Америке в основе деятельности лежит свобода, в России – рабство. У них разные истоки и разные пути, но очень возможно, что Провидение втайне уготовило каждой из них стать хозяйкой половины мира[256].
Русские писатели и мыслители, прямо или косвенно отвечая графу Токвилю, сформулировали дискурс о русской «другой свободе», которую должно искать не в политической системе страны, а в ее творческом и духовном наследии. Эти суждения выросли до размеров масштабной рефлексии о взаимоотношениях между гражданскими свободами и внутренней свободой индивидуума, свободой и освобождением, а также между классическим либерализмом и национальной культурой; все это получило самые широкие международные последствия.
Элементы русской культурной мифологии, связанной с национальной идентичностью, часто базируются на словах, которые традиционно считались непереводимыми. В русском языке, к примеру, есть два отдельных слова для определения понятия «truth»: правда, связанная с праведностью и законом, и истина – более правдивая правда, связанная с внутренней сущностью бытия, – слово, которое, по выражению Владимира Набокова, «ни с чем не рифмуется»[257]. Точно так же есть два слова для обозначения понятия «freedom»: свобода и воля. Слово «свобода», как представляется, куда ближе к западному «freedom», в то время как слово «воля», как утверждается, служит для обозначения радикального освобождения и символизирует то, что «свободнее настоящей свободы»[258], – вольницу, рифмующуюся с безграничностью степи и жестокими чаяниями мятежников и бандитов. Реальные данные об этимологии этих слов не соответствуют вышеозначенным культурным оппозициям и раскрывают транснациональные исторические пересечения и общее происхождение. Слово «свобода» может использоваться во множественном числе, тогда как воля (термин, который применялся в период освобождения русских крепостных крестьян) существует только в единственном числе[259]. Согласно одному из первых историков российской концепции свободы, Георгию Федотову[260], свобода в основе своей может подразумевать то, что Джон Стюарт Милль[261] называл «свобода другого»[262], в то время как воля – это, как правило, освобождение от социальных обременений лишь для себя одного. В этом смысле «она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо»[263]. Часто бывает так, что воля радикального разбойника (в роли которого в русской истории порой появляется царь-самозванец) вторит радикальному волюнтаризму абсолютного монарха, которому все дозволено. В русской культурной мифологии существует любопытная со-зависимость между преступником и самодержцем-автократом: «Разбойник – это идеал московской воли, как Грозный – идеал царя», – пишет Федотов[264]. Иными словами, бессильные зачастую подражали нравам сильных мира сего, разделяя с ними мечтания о контроле и господстве над массами.
В своих трудах, написанных в конце Второй мировой войны и на пороге холодной войны, Федотов задается вопросом о преемственности в теории и практике свободы в Российской империи и Советском Союзе. Станут ли народы, входящие в Россию, «участниками самого свободного и счастливого общества в мире» или же страна вернется к своему геополитическому предназначению гигантской нации на пороге между Европой и Азией?[265] Некоторые русские и советские патриоты того времени, а также евразийцы видели в этой уникальной судьбе ключ к российской стабильности, величию и международному признанию, в то время как другие осуждали национальную «склонность к деспотизму» и «народнические» или протофашистские тенденции, которые повторяются на протяжении всей ее истории в эпоху модерна[266].
Существуют очевидные исторические и географические причины, объясняющие различия между отношением русских и западных европейцев к свободе. Географически Россия лежала на пороге между Европой и Азией и занимала огромные и малонаселенные территории: леса и степи, которые нужно было контролировать и защищать от иноземных захватчиков. Что касается религии, то средневековая Русь заимствовала восточное христианство из Византии, которая была теократической и где Церковь не была отделена от государства. Исторически Россия была вынуждена изгонять вторгавшихся иноземцев – от монголов, иго которых продолжалось в течение трех столетий, до Адольфа Гитлера, вторжение которого длилось четыре года. В политическом отношении Россия была абсолютной монархией и империей на протяжении большей части своей истории, и лишь в течение одиннадцати лет она являлась конституционным государством (что преимущественно оставалось на уровне деклараций). Крепостное право было отменено в России в 1861 году, всего за год до того, как рабство было отменено в Соединенных Штатах Америки, но влияние крепостного права на русское население сохранялось вплоть до XX столетия. Российская склонность к авторитарной политической организации – часто воспринимаемая как нечто естественное, неизбежное и почти священное – пронизывала каждый из жизненных принципов: от социальных иерархий до отношения к закону и собственности, личных взаимоотношений и концепций личности и общества. Присутствует заметный дефицит исторической памяти о независимой судебной власти или равенстве перед законом. Правовое сознание в России никогда не было сильным, ни до, ни после революции. В русской политике и в русской творческой мысли путь к преодолению несправедливости виделся через радикальный бунт, а вовсе не через реформы, – часто посредством культивирования индивидуальной харизмы и пророческой идеологии.
Политическая культура «нации на пороге» способствовала появлению всевозможных двойных агентов, самозванцев и гибридных идентичностей. В эпоху Средневековья великие московские князья постоянно сотрудничали с монгольскими и татарскими захватчиками, часто предавая других русских князей, и создавали консолидированную и централизованную власть посредством уловок и беспринципного произвола – стратегии, которая достигла совершенства в конце XIX столетия с появлением внутренних двойных агентов – личностей, которые были одновременно членами революционных тайных обществ и сотрудниками царского Охранного отделения. История советского ГУЛАГа и сохранение инфраструктуры советской тайной полиции в постсоветской России наглядно демонстрируют живучесть этой московской модели власти (в Ленинграде/Санкт-Петербурге все это можно обнаружить в аналогичном Москве количестве, и на данный момент это уже не свойство места, а форма мышления).
И все же российская история едва ли соответствует концепции русской судьбы и русской души в том виде, какой ее представляли себе славянофилы и мыслители-евразийцы с XIX по XXI столетие. Согласно Федотову, средневековая Киевская Русь «имела все предпосылки, из которых на Западе в те времена всходили первые побеги свободы»[267]. Новгородская республика на севере России была формой свободного города-государства со своим народным вече – вплоть до того момента, как Новгород был жестоко покорен Московским государством. В русской культуре есть и другие герои: диссиденты, писатели, реформаторы, мечтатели, мыслители третьего пути и радикальные новаторы, а также «не чисто русские», которые нередко либо вычищаются, либо попросту вымарываются из российской истории. Федотов обращает внимание на то, что только ко времени правления Ивана Грозного развился особый московский тип «тяжести»[268] – сочетание беспощадности, беззакония и либерационизма[269], – которое в значительной степени доминировало, но, к счастью, не определяло ход русской истории. Приравнивать культурную мифологию страны к ее реальной истории – означает превращать мифологию в самосбывающееся пророчество[270].
Если российское политическое наследие не вызывает восхищения, то русское художественное наследие, несомненно, его вызывает. Писатели, к примеру, предлагали совершенно другие варианты работы под прикрытием – пути культурного посредничества и перевода. Если и есть хоть один неоспоримо положительный результат российско-западного взаимного оплодотворения, то это рождение классической русской литературы. Писателей часто считали «иностранцами на своей земле», и все же, начиная с Александра Пушкина, в России – больше, чем где бы то ни было, – они также играли роль неофициальных народных представителей[271].
Представители нескольких поколений энтузиастов-последователей Пушкина называли его не иначе как «наше все». По словам литературного критика Виссариона Белинского, русская национальная идентичность возникла на основе сообщества читателей произведений русской литературы, в особенности Пушкина. (Эта инклюзивная открытая концепция национальной культуры, увы, просуществовала недолго.) Поэтому вовсе не удивительно, что в России критика крепостного права, а также продвижение идей свободы и освобождения развивались куда более тонко именно в литературе, нежели в философии, политической теории или юриспруденции. Таким образом, граница между Россией и «Западом» отражает также взаимоотношения между искусством и политикой.
Вместе с тем межкультурные контакты и путешествия за границу часто как раз подтверждают культурные стереотипы, а не опровергают их. Русские, совершавшие путешествия в Европу в конце XVIII столетия и в XXI веке, часто воспринимали политические свободы Запада, а также саму идею общественного договора, коренящегося в политических институтах, в лучшем случае – как наигранное притворство, а то и как чистой воды лицемерие и принуждение. В свою очередь, западные наблюдатели нередко поражались необъяснимому сосуществованию мечтаний об освобождении в русской литературе с авторитарными политическими режимами, к которым некоторые великие писатели относились с какой-то своеобразной фаталистической неизбежностью – подобно тому как относятся к неважной русской погоде. В то же время русская традиция социального, художественного и порой политического диссидентства предлагала мощные творческие стратегии и использование «негативной свободы», которая вдохновляла западных философов свободы, включая таких, как Исайя Берлин[272].
Готовы ли мы принять аргумент культурного различия в качестве твердого алиби, служащего оправданием того, что иноземец может воспринимать как отсутствие свободы? На чем основаны межкультурные диалоги: признание и терпимость к трагической несоизмеримости культур и людей или вера в общую границу, где все еще остается место для дискуссии?
В этой главе в центре внимания будут взаимоотношения между свободами во множественном числе и свободой в единственном числе, с акцентом на «иной свободе» – уникальном поэтическом и духовном искусстве, впервые сформулированном в стихах Александра Пушкина. Я буду разбирать межкультурные диалоги о свободе между русскими поэтами и западными либеральными мыслителями, сосредоточив внимание на Пушкине и Токвиле, – оба они творили в эпоху после Французской революции, поражения революции 1830 года, восстания декабристов, а также уделю внимание Берлину и Ахматовой, которые встретились накануне холодной войны. Ахматова позволила себе поэтическую вольность, утверждая, что их ночной разговор положил начало холодной войне, косвенно ссылаясь на Токвиля, труды которого ее интересовали. Каждый из писателей и политических философов предлагает собственную версию архитектуры свободы и своеобразную вариацию концепции диалогической встречи, которая способствует свободе высказывания: будь то поэтическая игра со «словами, словами, словами», позаимствованными у других писателей (Пушкин); практика обдумывания и «воспитания демократии» (Токвиль); импровизированная и запретная близость с «гостями из будущего» в условиях закрытого общества (Ахматова); а также культурный плюрализм и свободный разговор, несмотря ни на что (Берлин).
«Иная свобода» и искусство цензуры
Гордый правнук Абрама (Ибрагима) Ганнибала[273], абиссинца, взятого Петром Великим из неволи у османского императора и обученного, чтобы стать образцовым «человеком эпохи Просвещения», – Пушкин получил известность как русский поэт – певец свободы. В молодости он был дружен с мятежниками-декабристами, которые устроили героическое, но увенчавшееся провалом, восстание против царя в 1825 году, он также стал автором знаменитой оды «Вольность», за которую был отправлен в ссылку на юг России. Меж тем к 1830 году вольнодумец и либертин[274] был уже остепенившимся человеком, камер-юнкером при дворе царя Николая I, обязанным водить свою молодую супругу на царские балы, и автором произведений в жанре исторической прозы. За год до трагической гибели на дуэли Пушкин выступил с поэтическим манифестом «иной свободы» в форме короткого стихотворения, озаглавленного «Из Пиндемонти» (1836), которое он подал как скромный перевод с итальянского языка[275]:
Не дорого ценю я громкие права,От коих не одна кружится голова.Я не ропщу о том, что отказали богиМне в сладкой участи оспоривать налогиИли мешать царям друг с другом воевать;И мало горя мне, свободно ли печатьМорочит олухов, иль чуткая цензураВ журнальных замыслах стесняет балагура.Все это, видите ль, слова, слова, слова*.Иные, лучшие мне дороги права;Иная, лучшая потребна мне свобода:Зависеть от царя, зависеть от народа – Не все ли нам равно? Бог с ними.НикомуОтчета не давать, себе лишь самомуСлужить и угождать; для власти, для ливреиНе гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;По прихоти своей скитаться здесь и там,Дивясь божественным природы красотам,И пред созданьями искусств и вдохновеньяТрепеща радостно в восторгах умиленья.– Вот счастье! вот права…* Гамлет (сноска в оригинале)[276] , [277]Стихотворение начинается с серии отрицаний, предполагающих, что путь к «иной свободе» – это via negativa. Здесь обобщенно намечены общие места европейского дискурса о свободе – от политических лозунгов французской и американской революций до стоических и элегических понятий художественной свободы[278]. На первый взгляд кажется, что произведение основано на противопоставлении свобод во множественном числе, – т. е. демократических прав и свободы в единственном числе, – но поэтический идеал определяется как «иная свобода» («another freedom»). Первая часть стихотворения написана как сатира, обличающая нравы всех тех, кто увлечен демократическими правами, в особенности «литературных дельцов», злоупотребляющих свободой слова. Высмеивая новую журналистику, Пушкин сам применяет язык политического фельетона с его разговорной речью, использованием настоящего времени и полемической формой коммуникации. Вторая часть стихотворения преподносит нам личную декларацию независимости поэта и элегический манифест «иной свободы»[279]. Он переносит нас в виртуальное пространство и время поэтического мира грез. Пейзаж здесь едва ли выглядит русским, но скорее представляет собой идеализированную версию греко-римского или итальянского пространства, что служит напоминанием о тех местах, куда не отпускали Пушкина. Как ни странно, поэт – только что вернувшийся из ссылки, куда он был направлен, будучи наказанным за свое чрезмерное увлечение практикой искусства свободы, а позднее помилованный указом императора Николая I, – жаждет нового изгнания, на сей раз по собственному выбору. Во фразе «иная свобода» слово «иная» связано с нездешним характером происхождения, вероисповедания или образа мышления[280]. Вопреки последующему представлению Достоевского о Пушкине, эта «иная свобода» – вовсе не нечто типично русское. По большому счету, ее идеал – это перипатетизм[281]; Аркадия, где поэт может практиковаться в своем искусстве освобождения, не коренится в родной земле или даже в родном художественном воображении, восходящем к поэзии Горация, относящейся к золотому веку Римской империи.
Мечта об этой «иной свободе» представлена через серию инфинитивных конструкций, раскрывающих виртуальное измерение «иной свободы» как формы «инобытия» (иная свобода – как инобытие)[282]. Этот вид «счастья sub specie infinitiva»[283] дает приостановку общепринятой темпоральности политического дискурса, открывая другие перспективы, где странствия и чудеса выходят за пределы как прагматического настоящего, так и светлого будущего.
В духе более поздней поэзии Пушкина, стихотворение «Из Пиндемонти» написано весьма прозаическим языком – без особенного обращения к метафорам или иным поэтическим тропам. Его нервы – это сами рифмы: они кристаллизуют центральный конфликт поэтического произведения, разворачивающийся между словами и правами – слова/права. В первой части стихотворения обе эти сущности представляются в равной мере дискредитированными – лишь затем, чтобы подвергнуться остранению, а затем переосмыслению в грезах об иной свободе. Если при первом упоминании политические права появляются как «видите ль, слова», то в конце концов слова, как представляется, обеспечивают стихотворцу его неотъемлемое человеческое право – обещание грядущего счастья. Конституционные свободы, парламентские системы, позволяющие оказывать воздействие на войны между царями, участие в публичной политике, а также иные формы социальных «контрактов» предстают здесь в обличье банального лицемерия: в собственной декларации независимости поэта провозглашается освобождение от царя и от народа и прославление уникальной свободы изгнанника, наслаждающегося природой и культурой.
Тем не менее это стихотворение далеко не такое простое, каким может показаться на первый взгляд. Здесь присутствует детективная линия, повествующая о противоречии между самим стихотворением и его многочисленными контекстами и интертекстами, – благодаря развитию которой обнаруживаются улики, дающие ключ к пониманию драматической истории свободы в России на протяжении столетий[284]. Первая часть стихотворения воспринимается как переоценка поэтом собственной более ранней версии проекта свободы. В ранних стихах Пушкин весьма игриво отмечает прелести греческой богини свободы Эллеферии и представителей ее гедонистического окружения – Вакха и Венеры. Свобода в ранней поэтике Пушкина – это социальное искусство в том смысле, который вкладывался в это слово в XVIII столетии, – игра эротизма, дружбы, досуга и грез о гражданской свободе. В одном из стихотворений слово «Эллеферия» даже зарифмовано со словом «Россия»[285] – правда, в семантической структуре стихотворения данная пара представляет собой отрицание. Поэт приглашает свою богиню свободы переселиться к нему на юг, так как им обоим трудно выживать в холодном российском климате[286]. В стихотворении «Из Пиндемонти» Пушкин превращается в своего рода отступника, отрекающегося от культа богини свободы, о которой он писал ранее. Используя дискурс как Американской декларации независимости, так и Французской революции, Пушкин превращает демократический проект в пародию, разворачивая более широкую политическую дискуссию в литературной общественной сфере.
Когда Пушкин сочинил это стихотворение, он как раз читал французский оригинал первого тома книги «Демократия в Америке»[287]. (Книга Токвиля о демократии в Америке была запрещена в России в эпоху царствования Николая I, равно как и текст американской Конституции.) В письме Петру Чаадаеву Пушкин раскрывает свой глубоко укоренившийся страх перед провиденциальным маршем демократии: «Читали ли вы Токвиля? Я еще под горячим впечатлением от его книги и совсем напуган ею»[288]. Однако вместо того, чтобы писать непосредственно о книге, Пушкин решил рассмотреть мемуары Джона Таннера, которые в общих чертах совпадают с критикой Токвиля в аспектах осуждения рабства и условий жизни афроамериканцев, а также коренных народов Америки. Данная тематика была исключительно близка сердцу Пушкина, так как он безмерно чтил собственного деда-африканца Ибрагима/Абрама Ганнибала, в судьбе которого принял деятельное участие император Петр Великий, дав ему образование, чтобы он смог стать новым примером просвещенного русского аристократа. И все же складывается впечатление, что демократия пугала Пушкина практически в той же мере, что и рабство: «С изумлением увидели демократию в ее отвратительном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее нестерпимом тиранстве. ‹…› такова картина Американских Штатов, недавно выставленная перед нами»[289].
Если бы нам не было известно о Токвиле ровным счетом ничего, из замечаний Пушкина мы могли бы сделать вывод, что французский путешественник выступал с язвительной критикой Америки. Как ни парадоксально, но неоднозначная и сложная книга Токвиля в Соединенных Штатах рассматривается как панегирик Америке, а в России – как ее радикальная критика. Порой кажется, что Пушкин читал какую-то другую книгу – отличающуюся от той, что досталась его американским современникам, полностью игнорирующим многостраничные рассуждения Токвиля про американские собрания горожан и политические институты.
Растревоженный токвилевским описанием демократической жизни, Пушкин предлагает отделить свободу творчества от политической и социальной свободы, принимая грезы о внутренней свободе в ее стоическом и романтическом изводе[290]. Стоическое представление о «внутреннем полисе» является отражением упадка публичного полиса; концепция свободы в этот период интернализуется, заточается в пространство «внутренней цитадели» индивида. Философская концепция «внутренней свободы» развивалась в эпоху империи, когда греческие демократические идеалы пребывали в состоянии упадка. Как и в случае с римскими стоиками, грезы о внутренней свободе сосуществуют с фаталистическим принятием политического абсолютизма. Что же до политической ситуации, то здесь поэт внутренней свободы следует совету Эпиктета и принимает status quo абсолютной монархии. По Эпиктету, это означало жить, желая и принимая «то, что есть» и, я бы, пожалуй, еще добавила: время от времени связывая воедино то, что есть, с тем, что должно быть[291].