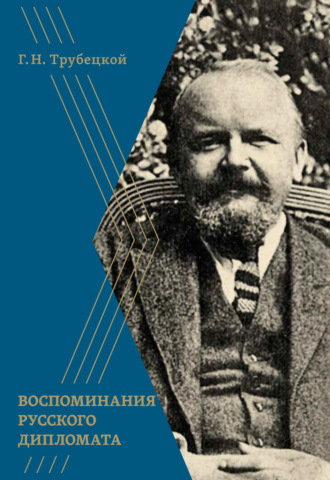
Полная версия
Воспоминания русского дипломата
Московский университет (1892–1896 годы)
Я поступил в университет осенью 1892 года. Вспоминая свои первые университетские впечатления, я переживаю то обаяние, которое имело для только что испеченного студента то огромное и таинственное учреждение, членом и песчинкой в коем я себя чувствовал. Университет казался действительно храмом науки, и я проникал в него, как какое-то святилище.
Вместе с тем, я, как и мои товарищи, имел самое слабое представление о том, что в действительности представляет из себя университет. Выбор факультета определялся для огромного большинства самыми общими и смутными представлениями. Я не имел какого-нибудь исключительного интереса к той или другой отрасли знания. Может быть я мог бы глубже заинтересоваться философией, под влиянием старших братьев, но с другой стороны меня удерживала и реакция против следования их примеру – желание самому пробить свой путь. Философия представляла для меня интерес не как самодовлеющая цель, а как прожектор, который должен осветить мне жизненный путь и помочь в нем разобраться. Шварц разбудил во мне вкус к древности; с другой стороны, по совету и указаниям моего бо-фрера Ф. Д. Самарина, я прочел некоторые серьезные книги по русской истории и делал выписки.
В университете в начале меня потянуло ко всему зараз, и ни к чему в особенности. Я слушал с увлечением лекции милого старого приват-доцента Степ[ана] Фед[оровича] Фортунатова, который всегда увлекал первокурсников. Он читал историю конституции Сев[еро]-Америк[анских] Штатов, закрывал глаза и пел как соловей про историю самого свободного государства и народа. В то время, к этому примешивалась прелесть впервые вкушаемого запретного плода. Научной ценности эти лекции разумеется не представляли. Это был так сказать десерт, но в юности десерт ценится больше питательной пищи.
Греческую историю читал Павел Гаврилович Виноградов. Наружно он был фатоват, у него была пошловатая самодовольность в голосе, он отдавал некоторую дань либеральной популярности, но несмотря на все это он был настоящий большой и талантливый ученый. Лекции его были прекрасны, но самой поучительной частью его преподавания был семинарий по древней истории. Одним из первых рефератов, на котором мне пришлось присутствовать, имел своим предметом разбор недавно открытого нового произведения Аристотеля «Государство афинян». Референтом был студент IV курса, известный всему университету Васенька Маклаков. Диспут его с Виноградовым производил блестящее впечатление. Видно было, что он основательно изучил вопрос, и талантливо защищал свою точку зрения. Я также взялся написать реферат по какому-то вопросу Гомеровского эпоса, но еще слишком близок был к гимназии и гимназическим требованиям и меркам, и для меня этот реферат имел только то значение, что когда я его написал, то сам воочию увидел свою несостоятельность, и устыдился своего произведения.
Римскую историю читал старый профессор Владимир Иванович Герье. С большой окладистой бородой, степенной профессорской важностью, он был человеком старого поколения, сверстником Б. Н. Чичерина, хранил традиции Московского университета, преемственную связь Грановского, Станкевича. Он читал скучным монотонным голосом, никогда не гонялся за эффектами, был основательным и почтенным педагогом; я лично чувствую себя обязанным ему больше, чем кому-либо из других университетских преподавателей. Он заставлял работать студентов. Если в его лекциях было мало игры, зато все курсы, которые мне пришлось у него прослушать (римская история, история Возрождения, Французская революция) были основательно и серьезно составлены, изложение его было всегда стройным и продуманным. Кроме того он заставлял студентов проделывать серьезную научную работу над первоисточниками, применяя все методы исторической критики. Эти принудительные занятия могли казаться стеснительными для немногих, посвятивших себя уже с первого курса специальному научному интересу, но для рядовых студентов с ленцой они были в высшей степени полезны. Герье воспитывал в студентах навыки критического исследования, обучал их научным приемам, требуя всестороннего изучения текста и основательной добросовестной работы. Эти методы нужны были не только одним будущим ученым. Сколько раз, впоследствии, на службе, когда мне приходилось изучать какое-нибудь дело с целым ворохом документов, я о благодарностью поминал Герье, который учил, как надо разбираться в документах, чтобы по ним доискаться до сути дела, освобождая ее от тенденция, ее затемняющих. Герье был строг и требователен и мы не очень любили приглашения вечером к нему на квартиру для чтения рефератов. Он угощал нас чаем и предлагал лимон: «хотите лимона…» – таким скрипучим голосом, в котором чувствовались капли лимонного сока. Мы его боялись, но вместе с тем он пользовался общим уважением среди профессоров и студентов, и чувствовалось, как вся жизнь и все интересы этого почтенного старика сосредоточены в дорогом для него Московском университете.
Самым блестящим лектором и ученым был, конечно, Василий Осипович Ключевский. Прежде всего это был совершенно замечательный художник и актер. Его аудитория была всегда полна до отказа, и нужно было заранее пробраться, чтобы заручиться местом. Всегда много народа стояло. Существовало литографированное издание его лекций, но сам Ключевский не признавал его, и только в самые последние годы своей жизни выпустил в свет печатное издание, над которым много и тщательно работал. Эти лекции дают результаты его многолетней работы по русской истории. По ним можно судить, каким крупным ученым был Ключевский, скольким обязана ему русская история, каким критическим чутьем и каким художественным талантом он обладал. Но чтение его лекций совершенно не может восполнить читателю впечатление, которое производило его живое слово. Из года в год, когда он делал свои характеристики, он повторял те же словечки, совершенно так же их произносил, и всякий раз получалось впечатление великого художника-актера. Его манера говорить, его мимика были непередаваемы; он создавал живые образы, воскрешал быт, иногда воспроизводил целые сцены в лицах. История буквально жила в его изображении. Никогда и ни у кого мне не пришлось видеть и слышать ничего подобного по художественному мастерству воспроизведения прошлого. Сам он напоминал старого дьяка, поседевшего в Московском приказе. Как сейчас вижу его перед собой, невысокого сухенького старичка с седой козлиной бородкой, в золотых очках, спешной сгорбленной походкой пробирающегося в аудиторию. Он не поднимался на кафедру, а становился рядом с ней. Ему как будто нужно было откуда-то выглядывать, пока он говорил. Перед тем, чтобы пустить словечко, его голубые глазки щурились и загорались лукавым огоньком. Говорил он немного глухим сдавленным голосом с духовным говором, немного на «о». Язык его был – языком русского книжника. В нем слышались и летописи и древние грамоты и житие святых, и разговор московских площадей. Лекции Ключевского доставляли высокое и незабываемое художественное наслаждение. Талант бил из него ключом. Вместе с тем то, что казалось внезапным и блестящим экспромтом, было вырабатываемо годами. Долгая кропотливая работа предшествовала этому художественному завершению.
Мне пришлось, как студенту, иметь личное общение с Ключевским. Я избрал темой своего кандидатского сочинения историю положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян от крепостного права. До этого мне пришлось составить несколько предварительных рефератов по изучению положения о государственных крестьянах, выработанного гр[афом] Киселевым{78}. Всякий раз, как я передавал свои работы Ключевскому на его отзыв, это давало ему повод сыпать блеском самых интересных и тонких мыслей и замечаний. Это был настоящий фейерверк, который меня ошарашивал. Этот живой и вдохновенный ключ бил щедро и неудержимо, но была и обратная сторона медали. Профессор увлекался своими мыслями и забывал выслушивать ученика. Я приходил с обоими вопросами и уходил обыкновенно так и не имев случая и возможности поставить их. Поэтому Ключевский влиял на своих учеников, но не воспитывал их, и ученики только самостоятельно могли докопаться до его методов.
Был еще один редко одаренный профессор на нашем факультете – Федор Евгеньевич Корш. Его специальностью были древние языки. На первом курсе он вел семинарий по латинскому языку. Для зачета семестра надо было представить перевод небольшого рассказа на латинский язык. Совместно с Николаем Гагариным мы взяли какую-то не то народную сказку, не то басню, и представили наш перевод. Мы не перевели, а, что называется, переперли слово за словом текст, но Коршу это давало повод, в течение двух месяцев прочесть ряд блестящих лекций, разбирая каждое слово, сопоставляя два быта, два фольклора – древнерусский и римский. В числе выражений было: «не все коту масленница, придет и Великий пост». Корш пригласил старого профессора Иванова, знатока римских древностей и вместе с ним советовался каким бытовым понятиям у римлян могли бы соответствовать наши масленница и Великий пост. От нашего перевода разумеется ничего не осталось, и Корш прозвал нас латинскими мадам Курдюковыми{79}.
Впоследствии мне пришлось ближе познакомиться с Ф. Е. Коршем. Это был человек исключительных дарований и непомерной лени. Он впитал в себя культуру классическую и всяческую, и был духовным сибаритом. Его забавляло проделывать такие фокусы, как например, переводить отрывки из «Евгения Онегина» на древнегреческий язык, или переводить греческие стихи на древнеперсидский язык. Все это он делал шутя, для удовольствия, он был тончайший филолог, но он совершенно не способен был приложить усилий на большой и серьезный труд. В жизни он был необыкновенно приятный, милый и остроумный собеседник, и большой скептик. Наружность его не обличала ученого, сизый нос указывал на вкусы ничего общего с наукой не имевшие. Но он был хороший благородный человек, не способный ни на что мелкое и прожил, как прожило столько талантливых русских людей благодушно погружаясь в быт, представлявший такую опасность засасывания для чистых сердцем, но слабовольных людей.
В период моего студенчества в университете, начинала восходить звезда моего брата Сергея. Он читал лекции по истории древней философии, а кроме того по Ветхому Завету, приблизительно в том порядке и по тому замыслу, который лег впоследствии в основу его книги о логосе. Лекции эти пробуждали религиозный и философский интерес среди молодежи и привлекали довольно большое количество слушателей, если принять во внимание, что курс был необязательный и требовал довольно высокого уровня развития. – Кроме того он стал во главе студенческого общества, ставившего себе задачей разработку научных тем по самым различным отраслям знания – религии, философии, истории, права, экономических наук. К руководству отделами были привлечены наиболее живые и талантливые профессора. Начинание это вызвало самый живой отклик среди молодежи, как что-то новое, свежее, построенное на личном общении профессоров и студентов, вне формальных рамок. Чуткая отзывчивая и светлая фигура моего брата делала его естественным руководителем молодежи, в которой он умел пробуждать лучшие благородные чувства, и увлечь за собой в чистый мир духовных исканий.
В числе руководителей отделов студенческого общества состоял одно время приват-доцент Милюков. В течение года он заменял по кафедре русской истории Ключевского, командированного читать лекции великому князю Георгию Александровичу, который заболел чахоткой и проводил зиму в Аббас-Тумане, где и скончался. Милюков был популярен, как левый. Мне пришлось однажды в связи с работой, которую я вел, по истории освобождения крестьян, пойти к нему на квартиру вечером. На мой звонок дверь отворил сам Милюков, имевший немного смущенный вид. Он попросил меня обождать в передней и прошел в соседнюю комнату, где с моим входом как будто притихло находившееся там общество. – «Не беспокойтесь, это не жандармы, а студент», – объявил Милюков, и раздался общий смех, очевидно не вполне спокойно почувствовавшего себя собрания. Помню, что Милюков по поводу моей работы сделал, между прочим, мне намек, которого я тогда не понял, что вся оценка может быть иная, если подходить с иным пониманием титула собственности, но он не настаивал, увидя мое недоумение. Он конечно имел в виду новое только что начинавшее нелегальными путями проникать в Россию течение марксизма. Вскоре, не помню уже в связи с какой историей, его выслали из Москвы в Рязань. Этого было достаточно, чтобы создать ему популярность, и в Рязань потянулось паломничество. Оппозиционное настроение только начиналось тогда, в связи с голодным годом и работой общественных организаций в деревне в 1892 году.
У меня осталось воспоминание о Милюкове, как о второстепенном ученом и лекторе. Слишком невыгодно было для него сопоставление с Ключевским. Самостоятельных вкладов в изучение русской истории он не внес. Его мысли были вообще подражательны, и книга его по истории русской культуры в значительной степени заимствована из лекций того же Ключевского по русской историографии. Только оценка окрашена плоским позитивизмом, которого не было в изложении Ключевского. Покойный М. С. Соловьев называл Милюкова «Смердюковым русской истории». Это может быть слишком сурово было бы для общей его характеристики, ибо Милюков обнаруживал не раз подлинный патриотизм и другие не Смердюковские черты. Мне кажется, Милюков ведет свое происхождение от Базарова, здорового разночинца-нигилиста с аппетитом жизни. Он плотью и кровью демократ, требующий своего места на солнце, и считающий пережитком дворянскую культуру, романтизм старого быта, а заодно и религию. К этому присоединяется доктринерство самодовольного позитивиста и темперамент и задор матерого волка, зубами привыкшего прочищать себе путь. Таков Милюков. Ключевский был человеком совсем другого склада, не боевая и не сильная волей натура, но гораздо тоньше и богаче одаренная. Он также был в значительной степени позитивистом, но на его счастье художник и русский человек в нем был часто сильнее позитивиста, и он органически не мог свести всю историю к счетной книжке. Ключевский был соткан из противоречий. Он был позитивистом не нарочно. Духовный скептицизм сидел в нем вроде какого-то внутреннего рака, подтачивавшего цельность его натуры и ослаблявшего ее продуктивность. Рядом с этим у него было другое восприятие, которое влекло его в совершенно другую сторону: он чувствовал красоту православия и созданного им быта. Был ли он верующий или нет – трудно сказать, чужая душа потемки. Я думаю, он принадлежал к тем, кто мог говорить: «Верую Господи, помоги моему неверию». Речь его о Преп[одобном] Сергии написана человеком, которому Господь помог в его неверии. Он ходил в Храм Спасителя, преподавал в Духовной академии. Вместе с тем никогда не забуду одного спора его с моим братом Сергеем.
Мой брат, будучи глубоко религиозным человеком, отстаивал возможность объективного научного исследования в истории Ветхого и Нового Завета. Ключевский, предпослав все типичные для него оговорки – крючки, что он не затрагивает область веры, высказывал мнение, что факты веры не могут входить в область научного изучения. На самом деле чувствовалось, что его мысль идет дальше, и что он считает, что есть столкновение между верой и наукой. «Какая может быть наука в присутствии утверждения верой факта Воскресения Христова…»
Во время этого спора присутствовал другой историк – позитивист Михаил Сергеевич Корелин, который наслаждался словесной дуэлью. «Разве вы не чувствуете, что он ни во что не верит…» – шепнул он моей бель-сёр про Ключевского. – Теперь, когда из свидетелей и участников спора остался только я в живых, я не примкну к заключению Корелина. Ключевский остается для меня человеком с внутренно-раздвоенной душой, и я думаю, что этот моральный недуг отразился на его жизни и творчестве. Он мог бы по своим исключительным дарованиям дать неизмеримо больше того, что дал. При всем уважении и благодарной памяти к нему, я все-таки скажу, что он был из тех, про кого можно сказать, что «он был сам себе по колено». Примеры таких русских людей, к сожалению, не редки.
Раз я упомянул Корелина, то скажу и о нем несколько слов. Он был профессором всеобщей истории, написал диссертацию о Возрождении. Он был не очень даровит, но был прекрасный человек, честный, горячий, убежденный, один из тех, для кого Московский университет были святынями, и который своим личным примером поддерживал чистый дух уважения к этим святилищам среди молодежи. Он рано умер, вызвав всеобщее сочувствие и сожаление. Я помню, как он возмущался, когда однажды, на его семинарии по средневековой истории, я доказывал возможность использовать исторические материалы для диаметрально противоположных выводов.
Я ничего не говорю здесь о других профессорах, с которыми приходилось иметь дело больше на экзаменах, чем в течение учебного года. На другие факультеты я не ходил, но один год усердно посещал курс лекций проф[ессора] Тимирязева в Политехническом музее, если память мне не изменяет, о физиологии растений. Он прекрасно читал и у него всегда была полная аудитория. Он умел сочетать научную содержательность с доступностью изложения.
В общем, университет мне много дал, в смысле общего развития, расширения горизонтов и навыков к приемам научной критики. Ученого из меня не вышло, я слишком разбрасывался в своих интересах и от гимназии унаследовал и не отделался от привычек верхоглядства и недостатка дисциплины в работе. Всю жизнь я сознавал эти недостатки средней школы. От них не излечил меня университет, но у меня сохранилось о нем гораздо более приятное и благодарное воспоминание, чем о гимназии. Бывало учение в гимназии казалось бесконечным и я не раз спрашивал себя неужели когда-нибудь я одолею экзамен зрелости и кончится это мучение. В университете было совершенно наоборот. Хотелось задержать время, было жаль думать, что годы проходят, чувствовалось, что потом, когда что-то придется начинать новое, будет разрыв с этим счастливым неповторимым периодом жизни.
Университетские интересы охватывали, конечно, только часть содержания общей жизни за студенческие годы. Появились новые друзья и знакомства. Но прежде всего несколько слов о внешних условиях нашей жизни для молодежи, выросшей в условиях беженства.
Мои родители, и мы, дети, считали, что у нас очень скромные средства, и это было так, в сравнении со многими семьями, нам близкими, Гагариными, Щербатовыми, Самариными, и другими. Мой отец был плохой хозяин, и не преумножил, но значительно уменьшил свое состояние, и вследствие непрактичности, и помогая разорившемуся брату.
С детства нас приучили к большой простоте и умеренности, поэтому мы умели ценить каждое скромное удовольствие. С 16 лет мне стали давать 3 рубля в месяц, а студентом я получал всего 10 рублей, хотя сейчас по беженским расчетам это показалось бы еще не так плохо.
Рядом с этим, мы жили в скромной по тогдашнему мерилу, но отличной квартире; у меня, студента, была и маленькая спальня, и кабинет. У нас были 3 пары лошадей, два кучера, большой штат прислуги, два лакея, повар для нас, кухарка для прислуги; из имения в Пензенской губ[ернии], которое не приносило, а уносило, ибо доход клал себе в карман управляющий, мы получали всякую живность, индеек, гусей, кур, что считалось принадлежностью самого скромного ежедневного стола с обедом из 4-х блюд. Все относительно на белом свете, и то, что до войны казалось минимумом, то показалось бы теперь, в беженстве, неслыханной роскошью, например, скромный ужин по вторникам после винта: осетрина, рябчики и пирожное человек на 80, и все в таком роде…
Одновременно со мною на филологический факультет поступил Николай Гагарин. Мои сестры уже раньше сблизились с его сестрами и бывали друг у друга. В голодный 1892-й год устраивались вечера, во время коих московские девицы шили и вязали всякие носильные вещи для голодающих. Гагарины достали на фасон рубашку и штаны у жены городового, стоявшего у них на перекрестке, но я помню, что почему-то сшитые ими штаны имели вид пирамиды, что вызывало немало шуток. Сомнительно, чтобы голодающие получили существенную помощь от этих soirées de couture[139], на которые допускались и молодые люди для содействия в этом добром деле. Я изредка только встречался с Николаем до совместного поступления в университет, которое нас сразу сблизило. Способствовало этому и наше близкое соседство. Мы жили на Кудринской ул[ицы], а от Кудринской площади начинался Новинский бульвар, где жили Гагарины в своем чудном старинном доме.
Николай был единственный сын, наследник и продолжатель Гагаринского рода, – любимец, надежда и гордость семьи, предмет обожания своих родителей, сестер и теток. Он рос избалованный отношением всей своей семьи и в привычках большой роскоши. В эту пору он был необыкновенно живой, жизнерадостный, впечатлительный и с повышенной нервной отзывчивостью на все юноша. Толстый, бородатый с 15-летнего возраста, он поражал солидностью своей внешности и несолидностью обращения: он прыгал и носился, как теленок, задравший хвост, с раскатами смеха, которые потрясали всю его корпуленцию. Первый раз что я его увидел – это было на балу взрослых и подростков у них дома. Он был в черном сюртуке со своей бородой, ему было всего 15 лет, те кто этого не знали, находили «невозможным этого господина», только младенческие глаза выдавали его возраст.
Чудный дом Гагариных был полон прекрасных старинных картин и произведений искусства. Это собиралось поколениями и представляло традицию утонченной аристократической изнеженной культуры.
Отец Николая князь Виктор Николаевич, воспитанный большей частью заграницей, отбыв службу в Кавалергардском полку, женился на дочери тогдашнего нашего посла в Париже барона Будберга, вышел в отставку и жил уединенной жизнью, довольствуясь обществом и дружбой немногих друзей детства, из которых самым большим был, кажется, отец моей жены, – дедушка Бутенев, «L’excellent Costi»[140] и «добрый Виктор» так они говорили друг про друга. Виктор Николаевич жил замкнутой семейной жизнью, отдаваясь главным образом художественным интересам{80}, и проводя время между заграницей и Россией, где у него было два очаровательных и великолепных дома в Москве на Новинском, и в подмосковном поместье – в Никольском. Жил он с самыми скромными личными потребностями и барским размахом в то же время. Он был нелюдим, очень застенчив, отвык от общества, и нелегко возобновил знакомства и приемы, когда подросли дети и надо было вывозить дочерей в свет. В нем была смесь эгоизма и горячей сердечности, тяжелого деспотического и подозрительного характера с самой милой и веселой приветливостью и личным шармом. А в общем он был прелестный человек, которого нельзя было не любить. От своих наследственных семейных недостатков, перешедших и к последующим поколениям, он больше всего страдал сам, так же как впоследствии его потомство. Казалось, все было дано Гагариным для приятной счастливой и безмятежной жизни, но часто своим тяжелым характером они портили собственное свое благополучие. К семейным чертам их характера надо еще прибавить болезненно повышенную восприимчивость к мелочам, из которых сотканы отношения между людьми. Они способны были возненавидеть человека, который «не так» держит вилку, или чем-нибудь смешен, или обнаружил какой-нибудь мелочный недостаток. Такой человек погибал в их глазах. Рядом с этим они могли внезапно и совершенно неизвестно почему, незаслуженно увлекаться и превозносить до небес кого-нибудь. Очень часто этот фаворит терял свое обаяние и с таким же преувеличением за ним начинали отрицать малейшие качества и достоинства. «О-о-о-о» подвывали Гагарочки, сестры Николая, приступая к характеристикам, в которых никогда не хватало никаких превосходных степеней для выражения их чувств, или предполагаемых чувств их собеседников.
Кн[ягиня] Марья Андреевна маленькая, толстая, с тонким длинным носом и мелкими чертами лица – была совсем другого уклада. Она жила всю свою жизнь заграницей; родным языком ее был французский, на котором она умела писать так, как писали люди старого поколения. Она по вкусам и привычкам была светская дама, любила общество. Она была наблюдательна и подмечала маленькие смешные стороны людей, что так часто бывает у светских людей, привыкших каждому человеку ставить мысленно его пробу, по тому, как он вошел, сел, поклонился. Вместе с тем она была добрейшее существо, вся отдававшаяся любви к своему мужу, Николаю и дочерям.
Мари и Софи были погодки, сверстницы моих сестер, Лина была младшая в семье, года на 4 их моложе. Мари была воплощением пылкого сердца. Она ни к чему не относилась равнодушно, все преувеличивала, но это было прелестное, чистое любящее существо, созданное для семейного счастья, которого ей не было послано в жизни. Она не была красива, но привлекательна с чудными голубыми глазами, которые каждую минуту готовы были вспыхнуть. Ее сестра Софи, была совсем некрасива, но была не без претензий на ум и тонкость, хотя в общем это были безобидные претензии; обе сестры были очень дружны. Третья сестра Лина была неудавшаяся красавица, с тонкими чертами красивого лица, но некрасивым толстым сложением. Замкнутость семьи, и может быть чрезмерная чувствительность к внешней стороне затрудняли сближение с ними. Вышла замуж только Лина и притом за итальянца – камердинера своего отца. Старшие сестры так и остались старыми девами.

