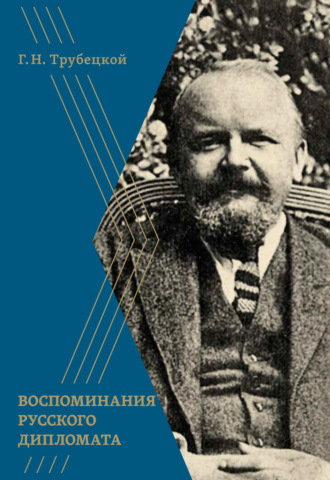
Полная версия
Воспоминания русского дипломата
Отъезд Жени в Ярославль, как только он кончил университет, обусловливался желанием покинуть Москву.
Оба брата, такие дружные и близкие, вместе в гимназии еще пережившие период религиозных сомнений, и засим возвращения к вере и увлечения философией, были вместе с тем совершенно различными натурами. Сережа живой, отзывчивый на все, Женя – однодум, всецело с головой уходивший в то, чем интересовался в данную минуту, рассеянный и ничего не замечавший, что делается вокруг него. Почему-то в юные года братьев, мама́ и ее сестра думали, что у Сережи одного настоящее призвание философа, а Женя по существу должен быть общественным деятелем, и будто увлечение философией у него наносное, от Сережи. Это глубоко задевало Женю и было совершенно неверно. Занятие философией переживалось им не менее глубоко, чем Сережей, и ощущалось им, как основной двигатель жизни, в том же религиозном освещении, которое было присуще обоим братьям. Последующая жизнь и того и другого была достаточным оправданием верно понятого каждым из них призвания.
Оба брата имели души чистые, пламеневшие Богу, оба были одарены, но у каждого был свой характер дарования. Чуткий Сережа всеми порами воспринимал жизнь и отзывался на нее. Это составляло его особенную свойственную ему прелесть и налагало печать на характере его творчества, полный созвучия с окружавшим его миром и людьми. Женя уходил в себя и в своей душе находил источник своего вдохновения. У него может быть меньше было в этом отношении коррективов против односторонностей в оценках живой действительности. Его ум был более отвлеченный. Увлекаясь какой-нибудь идеей, он иногда не замечал фактов, которые ей противоречили. Но он был человеком высокого духовного склада, и поэтому нередко его взгляды и оценки находили оправдание в более отдаленной исторической перспективе, чем в применении к текущей действительности.
Оба были просты, без всякой позы, но у Жени была какая-то своя особая простота – дар Божий. Он был похож на великолепную неотесанную глыбу гранита. Он и в обществе сидел всегда так, как если бы кругом никого не было. Он был немножко первобытным человеком. Никакие впечатления и мысли никогда не были скрыты у него. Один, или в обществе он продолжал жить поглощавшей его мыслью, и на его лице слишком ясно написана бывала скука и желание отсидеть положенный срок, если общество, в котором он находился, не отвечало его интересам. Высокие думы, которыми он жил, накладывали какую-то важность и сосредоточенность на его облике; он был высокого роста, красив, с тонкими благородными чертами лица и прекрасными голубыми глазами, но никогда не сознавал себя красивым и в молодости не чувствовал впечатления, которое производил, как вообще не замечал того, что вокруг него делалось. Он всегда и всюду жил своей внутренней жизнью, и в нем органически отсутствовала всякая деланность, эту простоту и непосредственность он унаследовал от Папа. Зато, когда ему бывало весело, то он покатывался со смеха, иногда сгибаясь до колен. Где бы он ни сидел, у него почему-то всегда одна из штанин подымалась почти до колена; он левой рукой чесал правое ухо, словом трудно было представить себе более цельного непосредственного человека, со счастливой ясной и чистой душой.
Живя в Ярославле, он не имел там никого, с кем бы мог отвести душу по наиболее дорогим для него вопросам. И он приезжал в Москву, полный накопившегося запаса мыслей. Поздоровавшись со всеми, он мог прямо из вагона живо заспорить с Сережей на интересовавшую его тему. Когда он приезжал к нам, он приглашал иногда к нам обедать своих друзей добродушного милого Льва Михайловича Лопатина и Владимира Соловьева. После обеда они удалялись к себе в ту смежную с моей маленькой спальней комнату, где останавливался он, когда приезжал, и жили Осоргины. И сразу подымался крик. Все говорили зараз, и всегда почему-то Соловев и мой брат сцеплялись с Лопатиным. Оба они были большие друзья обоих моих братьев, я их видал постоянно у брата Сережи, и летом они часто гостили у него.
Владимир Соловьев обладал замечательной внешностью, которая выделяла его изо всех окружающих. Скорее высокого роста, но сгорбленный, с длинными седеющими локонами, длинной бородой, он напоминал обликом Моисея Микель Анджело{76}. У него было изможденное лицо, освещенное большими черными глазами. Когда он одушевлялся, его глаза горели, и он был прекрасен – весь лик его как-то одухотворялся и голос, какой-то глубокий, сдавленный, звучавший из нутра, вдохновенно звенел. Густые усы скрывали большой рот, смягчая побеждаемую духом сильную чувственную природу. Я сказал, что он напоминал Моисея Микеланджело, но его прекрасная голова могла бы еще более служить образцом для головы Иоанна Крестителя. Внешность его была так необычна и так духовна, что кто-то из детей спросил раз про него: «Это – Боженька…», приняв его за священника. К необычности его наружности присоединялся также совершенно необычный смех, напоминавший немного крик осла. В обществе он мог быть исключительно блестящ, весел, остроумен, сорит блестками таланта. В мужской компании и в переписке например с моим братом Сережей он отпускал самые рискованные шутки, и заливался своим заразительным смехом с раскатами. Но иногда он казался каким-то отсутствующим, внешность его приобретала суровый аскетический вид, и глубокий взгляд был обращен куда-то вглубь внутри себя. Он был тогда феноменально рассеян. Его облик художественно очерчен моим братом Евгением в 1-й главе его труда о миросозерцании Владимира Соловьева. Насколько облик Владимира Соловьева был яркий и необыденный, настолько наружность Льва Михайловича Лопатина как будто возвращала вас одним своим видом к действительности. Небольшого роста, светло-русая борода метелкой, в больших золотых очках, сквозь которые лукаво-добродушно улыбались светлые глазки, – наружность профессора или доктора, он был типичный москвич, плоть от плоти и кость от кости ее быта. Он им был пропитан. А между тем это был незаурядный человек. У него был тонкий критический ум, большая разносторонняя культурность, широкая образованность, он имел интересную самостоятельную философскую систему и большой здравый смысл в суждении о широких общественных и политических вопросах. При всем добродушии, он тонко проникал в людскую психологию, мог давать самые меткие оценки и характеристики. В житейском отношении он был совершенный младенец, абсолютно беспомощный. Он был членом почтенной старой московской семьи, жившей в прелестном особнячке [18]40-х годов в Гагаринском переулке. Отец его Михаил Николаевич был всеми уважаемый председатель Судебной палаты. У них еженедельно собиралось по вечерам все, что было наиболее интересного в московском обществе – ученые, профессора университета, актеры Малого театра. Лев Михайлович жил с раннего возраста в комнате, которая называлась «детская», где он и кончил свои дни, и до поздних лет за ним ходила его няня. Московский быт крепко втянул его. Он был очень ленив, и не признавал никакого порядка. Он мог бы бесконечно больше дать по своей даровитости, чем дал на самом деле, но он рано отвык от упорного научного труда, не следил достаточно за наукой, и в последние года довольствовался подробным изложением той или иной новой книги, которое ему делал совсем не даровитый, но основательный профессор Веньямин Михайлович Хвостов. Благодаря большим способностям он мог такими урывками создавать себе достаточное представление о новых течениях, которые были ему менее симпатичны. Мне кажется, например, что он удовольствовался таким путем, чтобы ознакомиться с философией Когена, которая в начале этого столетия увлекала некоторых молодых ученых.
Лев Михайлович вставал поздно, ездил на уроки, лекции и по знакомым, всегда на одном и том же старом извозчике с клячей, потом ложился спать. Настоящая его жизнь начиналась часов в 12 ночи, когда он ехал на вечера к знакомым, потом ужинать в Художественный кружок, и возвращался часа в 3-4 ночи. Всюду его появление радостно встречалось. Всюду его окружал и втягивал родной ему московский быт, которым дышала вся его фигура. Он поразительно художественно рассказывал страшные рассказы. Когда он приезжал давать уроки в женскую гимназию, воспитанницы приставали к нему, чтобы вместо урока он им что-нибудь рассказал. То же повторялось, когда в 12 часов ночи он появлялся куда-нибудь к ужину, и Лев Михайлович не умел отказывать и добродушно подчинялся общим просьбам. Он не прочь был и выпить, и становился все милее и благодушнее. Революция его пугала. Он чувствовал отвращение ко всему грубому и резкому. Он не понимал оппозиции дальше добродушного подтрунивания над правительственными мероприятиями. Когда воцарился покойный Государь, сохранивший полковничью форму, чтобы не расставаться с вензелями покойного отца на погонах, и когда вскоре после того проявился на роли чуть ли не железнодорожного диктатора полковник Вендрик[123], Лев Михайлович сказал, что мы вступаем в «полковничий период русской истории». Это была одна из характерных для него добродушных шуток.
Лев Михайлович появлялся в самых различных домах, в каждой среде он был свой человек, всегда всюду ему были рады, он для всех был представителем родной Москвы, и он разделил участь стольких даровитых русских людей, расточавших порою свое дарование в обстановке добродушия и уюта, ужинов и вина.
В ту же эпоху, о которой я сейчас пишу, он был помоложе, не весь еще ушел в быт. Для моих братьев это был верный добрый друг и незаменимый собеседник, который мог понять и разделять все их интересы, хотя сам по своему философскому миросозерцанию занимал самостоятельную позицию. Он не был мистиком и совсем не был церковным человеком. Он уважал чужие религиозные интересы, хотя сам не разделял их. Соловьев и братья неизменно подтрунивали над Левоном, а он добродушно отшучивался. Годами он был сверстник Соловьева и старше моих братьев.
Я заговорил о Соловьеве и Лопатине попутно, по поводу приезда и помолвки Жени в начале 1889 года. Когда он только что приехал и зачастил к Щербатовым, я конечно это заметил, и так как был в самом несносном приставальном возрасте, то порядочно изводил бедного Женю. Я говорил ему, передразнивая какую-то актрису из театра Корша, драматическим голосом: «Женя, ты любишь Веру… – Да, да, ты любишь Веру!» Кроме того, неизменно по утрам я напевал ему:
Ах, окажи мне Женишочек,Отчего ты мой горшочек,Поздно ложисся…Все это повторялось много и часто, безо всяких вариантов, с единственной целью извести, и достигало своей цели.
Женя сделал предложение на приемном дне у Щербатовых, и вечером должен был получить ответ. Родители это знали. Обед (в 6 часов вечера) прошел в молчании и каким-то напряженном волнении, так что все мы чувствовали, что что-то происходит, и Марина сказала своей гувернантке: «Je crois qu’il y a un mariage dans l’air»[124].
Вечером Женя пошел к Щербатовым, вернулся сияющий и нас всех туда вызвали. Мы поехали в совсем чужой для нас дом, где мы дети раньше никогда не бывали. Там все ликовали. Верочка была младшая дочь, и, как всегда, к младшей дочери была особая нежность со стороны родителей.
Семья Щербатовых была такая же старинная почтенная московская семья, как и семья Самариных, с которыми они были в дружбе. Князь Александр Алексеевич Щербатов был ровесник моего отца, оба родились в 1828 году. Это была хорошо знакомая всем москвичам и любимая всеми крупная фигура старого барина. Всегда в просторном сюртуке, с белыми баками вокруг бритого подбородка с лицом, на котором были неизменно написаны благожелательство, приветливость, прямота, благородство, независимость и доброе старое барство. Это был израильтянин, в котором не было лукавства. Он весь был наружу. Его внешность отвечала внутреннему содержанию. Он был олицетворением доброй старой Москвы. – Он был ученик Грановского в Московском университете, ровесник и друг Бориса Николаевича Чичерина, вместе с ним был московским городским деятелем и заменил его на посту Московского городского головы. Князь Щербатов никогда не служил на государственной службе, и был типичным общественным деятелем эпохи великих преобразований императора Александра II. У него было крупное родовое состояние и он был большой барин. Он жил с семьей в своем большом доме на Б[олыпой] Никитской, где они давали приемы и балы на всю Москву. Старый Князь любил хорошо покушать и был хлебосол. Его любили и самые простые люди, и прислуга, и молодежь и взрослые люди всех званий и состояний и его крупная грузная фигура всегда всюду приветствовалась радостно и почтительно. Особенно памятно мне его сияющее лицо на Пасху, когда он со всеми, женщинами и мужчинами радостно христосовался и был каким-то олицетворением Московского Светлого праздника со звоном колоколов и хлебосольными розговенами. Старая княгиня, рожденная Муханова, когда-то красавица, была по матери полька (гр[афиня] Мостовская). Она была очень любезная светская женщина, умевшая давать des reparties – неожиданные находчивые ответы. Так однажды к ней в приемный день пришел Лев Толстой в своей рабочей блузе и спросил ее: «Est ce que mon costume ne vous choque pas?» – «Non, cher comte, – отвечала княгиня – mais pourtant je regrette pour vous: auparavant on parlait de votre talent, aujourd’hui on parle de votre costume»[125].
Две старшие дочери были давно замужем. Они были такие же крупные и грузные, как их отец: Софья Александровна Петрово-Соловово и Мария Александровна Новосильцева. Была еще незамужняя тогда, а позднее вышедшая замуж за старика Веневитинова – Воронежского губернского предводителя дворянства, Ольга Александровна вскоре после того заразившаяся при посещении какой-то богадельни черной оспой и скончавшаяся.
Воспитание у Щербатовых было основательное и полагалось уметь говорить и занимать гостей не банальными разговорами. Это было целое обучение искусству – la conversation. Они много читали и полагалось потом causer на тему чтения. У всех сестер и почтенных, и прекрасных (про каждую из них говорили qu’elle est un colosse moral[126], что было верно и в прямом и переносном смысле слова) развелась какая-то болезненная говорливость. La conversation ne devait jamais tarir[127], и гость все время слышал непрерывно переливающийся голос, причем у них была семейная привычка по два по три раза повторять те же слова и фразы, только бы не было паузы в разговоре. Особенно этим отличалась Софья Александровна. При всем уважении к ней, могу сказать, что от ее разговора я иногда испытывал мучительное чувство сначала какого-то беспокойства, потом нараставшего желания как-нибудь проскользнуть сквозь малейшую щелочку, которая могла остаться в этой разговорной ограде, в которой я чувствовал себя безнадежно пойманным.
Та же привычка была и у других сестер, которые при этом явно не щадили своих сил в служении разговорному долгу, но у Марьи Александровны эта несчастная привычка покрывалась таким морем доброты и уюта, которые излучались из ее существа, что не испытывалось никакой тягости, а только иногда беспокойство за усталость, которой она себя подвергает.
Мы прозвали Марью Александровну: Храм Спасителя. Это название как-то подходит к ее облику чего-то обширного, крепко слаженного, не очень красивого, но милого, уютного, московского. Трудно себе представить более безбрежную доброту и нравственную непоколебимость. Она действительно оправдывает характеристику – colosse moral. Счастливая жена и мать, она потеряла мужа и двух сыновей, которых обожала, и осталась той же излучающей на всех любовь, бесконечно благодарной Богу за все, что Он ей дал в жизни, и перенесла всю свою любовь на дочерей и внучат, в которых для нее повторяется жизнь ее мужа и сыновей. Полное личное самозабвение и светлое христиански радостное восприятие жизни с трогательной простотой и жизненностью, благодаря коим она продолжает ценить и вкусные вещи и природу и всякую радость в жизни. И ее любви хватает на всех и каждого, с кем связывают ее воспоминания прошлого или вновь сталкивает жизнь. Она остается тем же очагом света, тепла и силы и только духовно крепнет с годами с светлым взглядом на смерть близких, как на временную разлуку, с непоколебимой верой и убеждением в живую связь ушедших и оставшихся, которые дают ей силу продолжать свой земной удел, пока Богу не угодно будет призвать к Себе. Такими русскими праведными душами крепка Россия.
У Щербатовых продолжала жить старая гувернантка, всех их воспитавшая – Fräulein Kämpfer – преданное существо, член их семьи. От нее осталась у всех них привычка к порядку и добросовестному труду – немецкая основательность. В это время она еще отчасти продолжала опекать единственного младшего сына семьи – Сережу, который на год был меня моложе, и был предметом особого обожания своих родителей. Старый князь мечтал, что Сережа будет продолжателем его общественного служения и добрых крепких традиций семьи. Сережа в раннем возрасте сам рос в убеждении, что он обязан что-то продолжать, хотя для него не особенно ясно было – что именно. Старшие сестры укрепляли его в этом убеждении. В эту пору он был милый чистый мальчик, немножко наивный под окружавшей его со всех сторон опекой семьи и фрелейн Кемпфер. Я думаю, что мое сообщество могло скорее пугать семью, но мы виделись в это время с ним не часто; мы учились в разных гимназиях и у каждого из нас были свои друзья. Всего ближе он был с детства с будущим моим бо-фрером Николаем Гагариным.
Свадьба состоялась 10 февраля 1888 года, в церкви Рождества Богородицы в Кремлевском дворце. Как сейчас вижу милое взволнованное лицо старого князя, который вел под руку свою дочь в подвенечном платье по красному пушистому ковру коридора, ведшего в церковь. Помню также поразительно красивую в этот день Пашу в светло-сером тяжелого шелка платье с длинным треном, на который я нечаянно наступил, причинив ей вероятно страданье и помню, как на меня крикнул Сережа, и я ужаснулся, услыхав, как что-то треснуло в платье. После свадьбы поздравления были на Пресне, а вечером молодые уехали в Ярославль, куда раньше ездил Папа, чтобы устроить им квартиру.
Наш дом на Пресне был украшен для свадебного приема и по этому случаю решили воспользоваться этим устройством, чтобы дать небольшой бал для старших сестер – Ольги и Вари, но мы младшие были также допущены. На этом балу мне запомнилась высокая красавица Соня Мещерская, впоследствии вышедшая за князя В. А. Васильчикова[128], и не такая красивая, но полная шарма сестра ее Муфка (впоследствии гр. Толстая). Дирижировал танцами тогдашний дирижер всех московских балов Александр Нейфардт. Больше всего мы любили самые простые незатейливые вечера, которые устраивали в своей компании. Однажды мы пригласили гостей танцевать под шарманку, но мамá, боясь, что из этого ничего не выйдет, позвала кроме того тапера. Поэтому мы устроили пляс в двух этажах: внизу таперка, наверху в комнатах сестер шарманка, и Боря Лопухин, дирижировавший танцами, заставлял нас бешено низвергаться сверху вниз и скакать обратно. Это был может быть самый веселый наш бал. Танцевали также у Капнистов, Унковских, Истоминых, и всегда и всюду веселились до упаду.
Московская зимняя жизнь проходила в суете и какой-то постоянной суматохе. В этом отношении летний перерыв был благодетелен. Мы переезжали в Меньшово. Я попадал туда обычно только в начале июня и оставался до половины августа, когда возобновлялось учение в гимназии. Всего два месяца, но в эти годы все в жизни кажется значительным, и потому время как будто не так скоро идет, как потом в зрелые и старые годы, когда привыкаешь к жизненным впечатлениям и дни нанизываются один на другой, как четки на руке. Времени хватало на все – и на удовольствия и на внутреннюю жизнь. Потому что несмотря на всю распущенность гимназической жизни у меня была своя внутренняя жизнь. Я тщательно запирал подходы к ней для всех и замыкался в себе, вел дневник. Там было много самокопанья и не мало самолюбования. Вот почему такие дневники в юные годы мне кажутся вредными. В них всегда самоуничижение паче гордости, размазываются чувства и делается из них третьесортная литература. Четырнадцати лет, я, прочитав статью Шишкина о механическом миросозерцании в вопросах философии и психологии, решил, что я также должен выработать свое миросозерцание и упражнялся в этом дневнике. Но туда же я заносил и выписки из прочитанных книг, иногда весьма серьезных, и стихотворения на всех языках, которые мне особенно нравились (больше всего Тютчев) и обрывки разговоров и собственные мысли. И все-таки я скажу, что этот детский вздор был перемешан и с радостями и страданиями, и что в общем у меня была довольно сильная внутренняя жизнь с массой разнородных интересов и жаждой всестороннего знания, хотя все это не было упорядочено, потому что я наслаждался самолюбовным одиночеством. Мои любимые стихи были:
Молчи, скрывайся и таиИ чувства и мечти свои.Пускай в душевной глубинеИ всходят и зайдут онеКак звезды ясные в ночи.Любуйся ими и молчи.Есть целый мир в душе ТвоейТаинственно волшебных дум.Их заглушит наружный шум,Дневная оглушит молваПитайся ими, и молчи…И я воображал себе, что у меня в душе всходят такие звезды. А если б я не был так самолюбиво скрытен и беседовал бы с братом Сережей, сколько этих звезд оказалось бы блуждающими огоньками! Впрочем, когда начинается прилив сознания, то хочется и верится, что все можешь и должен делать сам и что тебя никто не может понять. В этих самостоятельных исканиях есть конечно и много доброго, и во всяком случае лучше, чтобы было это, чем ничего. Никогда не нужно торопить созревание внутренних процессов в молодых душах, и всегда надо себе говорить: перемелется, мука будет.
Меньшово обвеяно светлыми грезами юности не только для меня, но и для многих поколений молодежи, в нем чередовавшейся. Последние, кто в нем жили, были Гагарины. У них была великолепная усадьба в Звенигородском уезде, но они не могли расставаться с Меньшовым, где все было верхом простоты и скромности, не было ванны и были самые элементарные удобства.
Когда мы переехали на житье в Москву, мой отец построил просторный деревянный дом, заменивший когда-то стоявшие там два каменных дома. Снаружи дом был выкрашен в темно-красный цвет, внутри стены далеко не всюду были отштукатурены, а была частью деревянная обшивка, частью бревна с паклей. На всем лежала печать самой большой простоты. Ничего для вида, а все только то, что нужно, чтобы жить. И жилось необыкновенно уютно.
Прелестью Меньшова было его местоположение. От въезда шел скат – луг к извилистой и живописной речке Рожаю. С другой стороны дома был сад, куда выходила внизу крытая стеклянная терраса, а над нею балкон. Сад был не очень обширный, как все в Меньшове, но поэтический, с оврагом посередине и узенькими аллеями и тропинками, где было много тени и много заветных уголков, куда можно было уйти с книгой, положить ее рядом с собой, лечь на спину и мечтать и забываться, глядя на небо сквозь листву лип и берез.
Из сада ход в поле, где было сосредоточено миниатюрное Меньшовское хозяйство, дававшее много радости и волнений моему отцу, а потом сестре Ольге. С этих полей тети Лопухины – прежние хозяйки Меньшова – собирали урожай, умещавшийся в двух ваннах. Но поэзии и прелести было много в этом поле, заканчивавшемся высоким обрывом над рекой. Особенно вечером, после обеда было приятно ходить туда, когда рожь была уже высока. Узкая дорога вдоль обрыва, потом между двумя колыхавшимися стенами ржи вела в прелестную березовую рощу – Посибириху, где было много белых и березовых грибов. Иногда мы на лодке огибали Посибириху, которая спускалась к реке прелестными цветущими лужайками, где синели незабудки весной, а летом пестрели колокольчики и любишь-не-любишь. Повороты реки открывали все новые и новые милые перспективы, которые мы знали наизусть и так любили. Вот три березки, грациозные и одинокие среди лужайки, вот густые поросли тростника, ненюферы и деревья, свисающиеся над водой и вдали Тургеневская плотина с шумом падающей воды и осенью мельничного колеса, издалека слышных. А по ту сторону реки холмистые поля и близкий горизонт. Все это невелико, миловидно, ласкает взор, обвеяно прелестью Левитановских пейзажей и музыки Чайковского, особенно его романсов с усадьбенным и дачным романтизмом.
Меньшово была дача – место летнего отдыха, где текла не самая жизнь, а ее праздничный летний перерыв, приволье для детей и молодежи, покой для старых с молодой душой, где время шло празднично и беззаботно. Помню, как-то приехал к нам мой двоюродный брат скульптор Паоло Трубецкой. Он работал над заказанными ему статуэтками, помню даже одну из них – в[еликую] кн[ягин]ю Ел[изавету] Феодоровну – из белого мрамора; особенно воздушно у него выходило накинутое на плечи боа из страусовых перьев. Паоло работал на террасе, и тут же за столом сидели дядя Петя и тетя Лина Самарины, и другие старшие, и благодушествовали. – Паоло внезапно остановился и захохотал: Voilà, je vois, с ’est très agréable de ne rien faire comme vous[129]. И верно, в Меныпово было как-то особенно естественно и просто ничего не делать и благодушествовать. Всегда в этом занятии находились приятные компаньоны. Дом обыкновенно был битком набит постоянными и временными жильцами, и никогда не возникало сомнений, можно ли и как разместить приезжих. Езды по железной дороге было от 40 мин[ут], до часу от Москвы до станции, по Курской жел[езной] дороге. От станции до Меньшово было 12 верст. Постоянно все лошади были в разгоне, чтобы привозить и увозить гостей, но кроме того приезжие, если не предупреждали, то нанимали лошадей на станции. В последние годы близко от Меньшова прошла еще другая жел[езная] дорога и тогда вопрос сообщений еще упростился. Спали, как Бог пошлет. Иногда, когда бывали съезды, то на маленьких диванчиках, с приставными стульями, калачиком, а то и просто на полу. Никто не жаловался и все бывали довольны.

