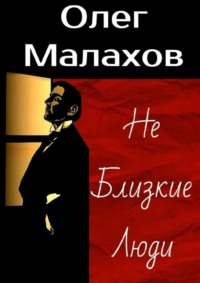Полная версия
Не Близкие Люди, Морана
На этот раз пиршество Чакветадзе, однако, прервалось самым неожиданным образом.
Около Ивана Иваныча собралось уже человек шесть, и разговоры текли рекой. Он уже успел воодушевлённо рассказать целых две истории о капитане Ткаченко. Потом разговор перешёл на нынешние порядки в пароходстве. Чакветадзе, ещё более воодушевившись, громил «бюрократов» из петербургского правления «Сома» за нелепые, по его мнению, распоряжения и за незнания Волги. До отхода парохода оставалось ещё два часа, и ещё половина напитков и угощений оставалось нетронутыми, а Чакветадзе добрался всего только до седьмого стакана чая.
И вдруг в рубку вбежал бледный, взволнованный Сухомлин и испуганным тоном, заикаясь от волнения, обратился к грузину.
– Иван Иваныч, срочно, пожалуй, в контору!
– А что такое? – удивился Чакветадзе. – Что, собственно, случилось?
– Скандал Иван Иваныч… Такой скандал, что и не знаю… Николай Павлович побил Лукомского…
Чакветадзе вскочил, словно на пружинах. Собеседники в смятении отодвинулись от стола.
– Врёшь?!
– Ей-богу! Вот тебе крест! – перекрестился. – Сейчас Николай Павлович в конторе, сидит ни жив ни мёртв… Елизавета Сергеевна тоже там, а доктор Лукомский за полицией побежал!
Находившиеся в рубке пассажиры, очевидно, заинтересовались появлением Сухомлина и его рассказом. Почти все они, любопытства ради, торопливо вышли на балкон, откуда было хорошо видно, что делается на пристани.
Потрясённый Чакветадзе схватился за голову и промолвил:
– Батюшки-батюшки… Ой, как нехорошо!… Пошли скорей!
– Вот это да! – воскликнул капитан. – Чего это с ним? – крикнул он в спину удаляющегося грузина.
Чакветадзе пулей спустился на нижнюю палубу к трапу и ещё по дороге услышал какой-то особый шум в конторе.
Там гудел и раздавался громкий, особенно повышенный и беспокойный разговор, непохожий на обычный шум пристанской суеты. Отдельные восклицания, словно короткие языки пламени, то и дело вырывались в костёр этого треска и гула. Около двери конторы теснилась толпа пассажиров и других, случайных, зевак. К зданию торопливо приближался, придерживая шашку, жандарм, а за ним шёл, толстый и важный, сам участковый пристав. Шёл он спокойно, можно сказать, величаво, и попутно остановился перед торговкой, погрозив ей пальцем. В толпе какая-то дама взволновано и гневно говорила: – «Чёрт знает что! Дерутся, скандалят… Никогда в жизни больше на этих пароходах не поеду!»
Чакветадзе вошёл в контору. Так же, как и в тот день, когда здесь внезапно расплакался Модзалевский, конторские служащие с любопытством заглядывали в полуоткрытую дверь кабинета. Лишь кассир, занятой выдачей билетов, нахмурившись, делал своё дело, да помощник капитана рылся в связке ключей, выдавая ключи пассажирам.
Иван Иваныч нерешительно заглянул в кабинет: ему было жутко, словно там, в кабинете, всё ещё продолжалась драка, что произошла здесь несколько минут назад.
Модзалевский, весь красный, с растрёпанными волосами, нервно покачиваясь, молча стоял в углу. Елизавета Сергеевна, наоборот, была вся в движении, махала руками, быстро ходила по комнате, кричала и, видимо, была вне себя от гнева. От волнения Чакветадзе не заметил и ни за что не мог потом сказать, был ли ещё кто-нибудь в кабинете, кроме них, или не был.
– Не увидит он теперь этой карточки как своих ушей! – кричала Модзалевская. – И пусть сегодня же убирается вон из нашего дома!
– Простите, у вас всё в порядке? – осмелился наконец спросить Чакветадзе. – Что здесь произошло?
Модзалевский бегло окинул его блуждающим взглядом и ничего не ответил. Зато Елизавета Сергеевна так и накинулась на него.
– Да, да!… Заходите, не стойте на пороге. Представляете, этот мерзавец пристал ко мне при всех с отборной бранью, зачем я взяла портрет? Я ему говорю: – «Не ваше дело»… А он начал меня на глазах у людей оскорблять… «Вы воровка! Вы такая! Вы сякая!» – Ну, конечно, Коленька не стерпел и ударил его, и тут началось…
Николай Павлович глубоко вздохнул и поморщился от внутренней боли.
– Ай, подлец! Ай, мерзавец! – покачал головой грузин. – Как этому шайтану только не стыдно… Оскорблять порядочную женщину на глазах у мужа.
Он не понимал, о каком таком портрете идёт речь, но ему было ясно одно, что Елизавету Сергеевну оскорбили. А так как он уважал её и любил, а доктор Лукомский ему был безразличен, то он и решил, что Лукомский оскорбил её зря.
– Это не его вещь, а моя! – взволнованно продолжала, подтверждая его убеждения, Модзалевская. – Тысячу раз моя! И взяла я портрет только для того, чтобы сделать с него копии. Это единственный похожий портрет Елены… Я бы ему его сразу вернула. А теперь уж нет… Не увидит он его… Я скорее порву его на сотню разных кусочков, чем отдам ему!
Видя, что ничего путного здесь сделать нельзя, он решил пойти успокоить публику и вообще как-нибудь потушить скандал.
– Петька! – громко и строго окликнул он матроса, стоявшего в толпе любопытных. – Тебе что заняться нечем? А ну, бегом к капитану, скажи, чтобы свисток давал.
– Иван Иваныч, так рано ещё…
– Это не твоего ума дела, исполняй, что сказано!
Чакветадзе пошёл к кассам, дружелюбно подвинул кассира и начал помогать тому с выдачей билетов.
– Господа подходим! Вам куда? В Симбирск? А вам? Ясно. Здравствуйте ваше благородие! – грузин толкнул кассира вбок. – Дай князю его билет.
Раздался свисток, быстро приковавший к себе внимание пассажиров, отвлекая их от неприятной истории. И пассажиры начали расходиться по своим местам.
Людей около конторы почти не осталось. Но зато откуда-то появился Лукомский. Необычно взволнованный, то бледнея, то краснея, он сунулся сначала в один угол, потом в другой, явно кого-то искал. Чакветадзе хоть и хотел пристыдить, а может и даже ударить Лукомского, как-никак он позволил себе оскорбить Елизавету Сергеевну, но решил, что правильно будет попытаться успокоить его и уговорить не обращаться в полицию. То обстоятельство, что Лукомский был тяжело оскорблен, и что уговаривать его сейчас бессмысленное, гиблое дело, никак не смущала Чакветадзе: – «Ну, допустим, Лукомский получил оскорбление, – думал он. – Но, во-первых, Николай Павлович хороший человек, а во-вторых, в-третьих и в-пятых – Николай Павлович хороший человек. Да и, в конце концов, Лукомский сам виноват».
– Даниил Валерьевич! – обратился он к возбуждённому доктору. – Может вам водички принести? А то, не дай бог, сгоряча ещё…
– Где полицейский и участковый? – перебил его Лукомский, не замечая и не признавая Иван Иваныча.
– Господа Жандармы ждут вот в том кабинете, – показал грузин и попробовал снова успокоить Лукомского. – Да полно вам! Не сердитесь, дело-то семейное. Зачем, скажи, пожалуйста, вам жандармы?
Но Лукомский опять не признал его и торопливо зашагал своими длинными ногами по указанному направлению.
Чакветадзе разозлился. Он не выносил, чтобы им пренебрегали и высказывали ему неуважение. Кровь бросилась к нему в голову, и буквально за минуту, Лукомский, который раньше был безразличен Иван Иванычу, стал его настоящим врагом. Он сердито махнул рукой, схватил папаху и швырнул её со всей силой об землю.
– Шайтан проклятый! – тихо, сквозь зубы, произнёс грузин.
Проводя Лукомского яростным взглядом до указанной ему двери, Чакветадзе, хрустнул костяшками на пальцах, поднял папаху и пошёл обратно в контору.
О пиршестве, конечно, уже и речи быть не могло.
– Во-первых, вы тоже оскорбили его, в лице его супруги, – лениво басил участковый пристав, – а во-вторых, это же ваш тесть. У вас в семье такое несчастье произошло, вам бы, наоборот, сплотится надо, а не морды бить друг другу.
Но Лукомский и слышать не хотел ни о каком примирении.
«Ну не вызывать же мне его на дуэль! – думал он. – Да он и откажется… Он меня за холопа считает, которого можно бить на глазах посторонних людей!»
И, весь вспыхнув от воспоминаний о нестерпимо острой минуте публичного унижения, он решительно стал настаивать на составлении протокола.
– Это единственный способ реабилитировать моё достоинство! – произнёс он.
И эти сухие, колючие слова, казалось, застряли в его горле. Так сильно они были сухи.
– Как угодно-с! – промолвил пристав и стал составлять протокол.
«Июня 29 дня, 1889 года, я, нижеподписавшийся, составил настоящий протокол о нижеследующем»… – выводил он правой рукой, сидя за столом в кабинете конторы «Сом».
Жандарм со скучающим видом безучастно, пока участковый пристав составлял протокол, глядел в окно на собиравшийся отчаливать пароход. Там шла удвоенная суета: грузили последние мешки товара и начинали убирать трап.
Лукомский, длинный и чопорный, сидел на стуле напротив, и упорно размышлял: как ему теперь поступать дальше? Как сохранить свою честь и достоинство?
К этой обычной и знакомой для него мысли теперь добавлялось чувство острого оскорбления. И ему было ясно, что это окончательный и бесповоротный разрыв всех отношений с Модзалевскими. Из людей родственных, и каких-никаких близких, они сделались его противниками, врагами и к тому же стали абсолютно чужими.
Модзалевские уехали в город ещё до отхода парохода.
Оба они, и муж и жена, были одинаково поражены совершившимся событием, но относились к этому по-разному.
Елизавета Сергеевна при всём своём смущении была отчасти даже довольна, что неприятные отношения закончились такой катастрофой. Такой исход знаменовал явное расторжение близких отношений, и, стало быть, ненавистный человек теперь должен был уже непременно уйти от них, а значит перестать мучить их своим присутствием. Сказанные в её адрес оскорбительные слова уже потеряли свою остроту. Она готова была забыть их. Оскорбление, нанесённое её мужем этому человеку, волновало её не очень сильно, потому что в тот момент, она понимала неизбежность этого события. Публичность и скандальность этой истории её тоже не беспокоило. Модзалевские, имевшие множество знакомств и живя постоянно на людях, привыкли к публичности. Больше всего Елизавету Сергеевну беспокоило состояние её мужа.
Николай Павлович, в противоположность ей, очень сильно мучился. Его терзало и грызло осознание, что он, приличный и порядочный человек, сделал такое безобразие, такое вопиющие некультурное деяние – побил человека на глазах у толпы…
Его неотступно угнетало воспоминание о той минуте, когда гнев затуманил ему взгляд и разум, и он, поддавшись ненависти, видя бесчувственное лицо зятя и слыша его нецензурную брань в адрес своей жены, словно дикое животное совершил постыдный, непростительный поступок.
При этих воспоминаниях ему становилось душно. От стыда хотелось зарыться куда-нибудь с головой и ничего больше не слышать и не видеть.
– Коленька, успокойся! – умоляла Елизавета Сергеевна. – Нельзя же так переживать. Всё к этому и шло. Нужно поскорей забыть это всё как страшный сон. Только и всего!
Модзалевский качал головой и по-прежнему чувствовал пульсацию на разбитой руке.
Но дома их ждало событие, которое сразу привело их в чувство. И вызвало такое волнение, что событии на пристани сразу отошли на задний план.
Заболел Саша.
С ним случился неожиданный, ни разу до той поры не случавшийся, припадок. Сразу поднялась температура, ребёнок впал в беспамятство, посинел и закатил глаза. Модзалевский лично побежал за доктором, напрочь позабыв о зяте. Доктор скоро приехал, и началась опять та суета, которая уже была так хорошо знакома в этом доме и наводила ужас.
Припадок скоро прошёл, но переживания по этому поводу продолжались почти всю ночь. Доктор ничего не говорил и был серьёзен. Елизавета Сергеевна убивалась, рыдала и теперь уже Николай Павлович успокаивал её…
Благодаря всей этой суматохи, Модзалевские как-то не заметили отсутствия зятя. Он так и не вернулся домой и куда-то бесследно исчез. Все его вещи по-прежнему оставались в его комнате: его одежда, книги, документы. Все эти неодушевлённые предметы лежали на своих местах, словно никакого разрыва и не было. Они как будто говорили всем своим видом: – «Нам что за дело, если паны дерутся? Лежим и будем лежать, пока нас не заберут».
Прошла ночь. Саше стало гораздо лучше. Страхи и волнения улеглись, а утром, проходя мимо комнаты Лукомского, Елизавета Сергеевна вспомнила о зяте.
Ей стало снова радостно при мысли, что ненавистный человек ушёл. Какое счастье не видеть его длинной, тощей, деревянной фигуры, не слышать его нудных речей. А какое счастье обедать, пить чай, ужинать, сидеть в детской без него, без этого тягостного и совершенно ненужного третьего лица.
Но окончательно ли он ушёл? А вдруг он вернётся? Ведь его вещи ещё здесь… Ведь это ещё его комната. Было бы, конечно, хорошо убрать из комнаты все его вещи и сделать эту комнату снова своей, как это было раньше. Елизавета Сергеевна даже мысленно прикинула, что именно можно поставить сюда из мебели. В детской тесновато из-за огромного шкафа, значит шкаф нужно поставить здесь. Потом сюда можно поставить один из книжных шкафов Николая Павловича. А ещё можно сделать отдельный уголок из мебели и вещей Елены.
– Только бы он не возвращался… – от всей души вздохнула Модзалевская.
Прошло ещё два дня. Зять так и не вернулся.
К вечеру через прислугу стало известно, что Лукомский ночует у своих знакомых, Рогачёвых.
– Надо что-то делать с его вещами, что думаешь? – наконец не удержалась и спросила мужа Елизавета Сергеевна.
Модзалевский, всё ещё крайне удручённый, остался недоволен этим вопросом жены.
– Ничего не думаю, Лизанька… – поморщился он. – Не трогай их, пожалуйста. Они тебе прям покоя не дают…
– Да, не дают! – не унималась она. – Здесь находится все его барахло: вещи, рукописи, больничные листы. Надо немедленно всё это отослать ему. Ещё будет говорить, что мы намеренно задерживаем его имущество!
– Куда мы их отошлём? К Рогачёвым? Да почём ты знаешь, может быть, он уже не у них.
Елизавета Сергеевна почувствовала себя побеждённой этим аргументом. Но на другой день было получено известие, опять-таки через прислугу, что Лукомский перебрался в гостиницу. И Модзалевская опять возобновила разговор о вещах.
– Категорически нет! – заявил Николай Павлович. – Ты же знаешь, как он болезненно всё воспринимает. Не надо его лишний раз злить. Пусть сам забирает вещи, если ему это надо.
Только на второй день, после этого разговора, поздно вечером в квартире Модзалевских появилась какая-то таинственная личность и выразила желание повидать «барина или барыню»…
– Собственно вот, нельзя ли получить от вас вещи по этому документику? – заявила личность, протягивая мятую, в одном месте порванную, бумажку.
В бумажке этой, никем не подписанной и неизвестно кем отправленной, было написано: «Прошу вас выдать посыльному: 1) Три моих костюма, висящие в левом отделении гардероба. 2) Всё бельё из нижнего ящика. 3) Бумаги и документы, находившиеся в коричневой и синей папке».
И больше ничего.
Елизавета Сергеевна самолично собрала все эти предметы из списка и, не спрашивая таинственную личность, кто она и откуда, и есть ли у неё хоть какие-то формальные полномочия на получение вещей, вручила их. И личность ушла.
Всё остальное имущество Лукомского так и оставалось, как было, в его комнате, что очень сильно огорчало Елизавету Сергеевну.
Глава четвертая
В первое время после событий на пристани Лукомский был убеждён, что теперь никакие встречи с этими неприятными людьми невозможны, они теперь, сами выбрав этот путь, стали его врагами. По крайней мере до суда, который должен был реабилитировать его гражданскую честь и достоинство. Его достоинство которому нанесли неслыханное оскорбление, да ещё и в публичном месте на глазах у огромного количества людей.
Суд состоялся очень скоро, на третий же или на четвёртый день. Лукомский не пошёл в суд, чтобы не привлекать внимание публики, но отправил своего поверенного, дав ему инструкцию добиться обвинения для Модзалевского, а затем простить его и ходатайствовать об отмене наказания. Такой шаг наиболее способствовал, по мнению Лукомского, реабилитации его достоинства и поднимал его в глазах общества. Теперь всем должно, стало быть, понятным, что Лукомский руководствовался не местью, не низким побуждением, а лишь желанием защитить свою честь и лицо.
Так всё и получилось. Судья заочно, Модзалевский не явился, обвинил Николая Павловича в нанесении оскорбления действием доктору Лукомскому в публичном месте и приговорил его к месяцу ареста. А затем постановил не подвергать его наказанию, ввиду ходатайства обвинителя.
Итак, это «дело» было кончено. Но вот теперь, когда оно было кончено, перед Лукомским стала целая вереница неразрешимых вопросов, и ему стало казаться, что история на пристани, положившая начало его разрыву с Модзалевскими, и последовавшее за ней судом, есть лишь пролог к дальнейшим крупным неприятностям. Также стало ясно, что избежать столкновений и встреч с врагом, по всей вероятности, крайне трудно и почти невозможно.
Несмотря на состоявшийся суд и на полученное официальное удовлетворение, Лукомский не мог успокоиться. Его раздражали тысяча мелочей: расспросы знакомых, взгляды на улице, смешки прислуги, количество людей знавшие о произошедшем, жизнь в гостинице. А самое главное, его возмущало то, что со стороны Модзалевских до сих пор всё ещё не было никакого отклика, никакой реакции…
Мысли об этом приводили Лукомского в животное бешенство. Это оскорбляло его даже больше, чем драка на пристани.
«Они давно добивались этой минуты! – с гневом думал он. – Они только об этом и мечтали! Специально спровоцировали меня, чтобы отделаться!…»
У него, конечно, была надежда, что посланный им за нужными ему вещами человек будет принят Модзалевскими, как посредник для переговоров, и что они пришлют с ним, кроме вещей, свои объяснения или извинения. Но посланный человек был встречен как тень и не принёс от них никаких записок.
Что же теперь было делать? Невозможно же было просто взять и исчезнуть из их поля зрения, им на радость.
Суд удовлетворил лишь оскорблённую честь Лукомского, но кроме чести, поражённой насильственными действиями Модзалевского и ныне уже удовлетворённой, оставалось ещё очень много неудовлетворённого. У Модзалевских, кроме разного неодушевлённого движимого имущества, находился ещё и ребёнок.
Вот этот ребёнок и составлял теперь главный пункт мучительных соображений, недоумений и затруднений Лукомского.
О ребёнке Лукомский уже упоминал в этом смысле и ранее, во время одной из стычек с тестем, но тогда он, скорей на эмоциях, сболтнул лишнего. И серьёзных таких действий предпринимать не собирался. Теперь же это было совсем другое дело! Теперь ребёнка совершенно точно необходимо было забрать. Во-первых, этим Лукомский наносил Модзалевским, если уже на то пошло, наиболее чувствительный удар. Во-вторых, это необходимо было сделать для того, чтобы поддержать свой авторитет, как отца, в глазах общества. Только, и только, тогда он бы перестал иметь вид изгнанного и лишённого прав родителя. Ребёнок был необходимым оружием для полного восстановления его чести. Также отобрать ребёнка являлось важнейшим тактическим ходом в возникшей войне и вместе с тем чрезвычайно важным юридическим обстоятельством в социальном положении Лукомского.
Но забрать ребёнка – это легко сказать! Лукомский прекрасно понимал, что Модзалевские ни за что на свете не выдадут ему ребёнка так же просто, как документы и «три костюма из левого отделения гардероба». Отобрать у них ребёнка являлось весьма затруднительным делом, соединённым с тягостными встречами и столкновениями.
С другой стороны, ребёнок страшно стеснял бы самого Лукомского. Там, у Модзалевских, всё налажено как часы: обстановка, няньки, кормление и уход за ребёнком. И хоть Лукомский многое хотел изменить в этом, однако, он не мог сейчас не согласиться, что ворчать и ссорится с Модзалевскими по этому поводу было гораздо легче, чем сейчас возиться с отобранным ребёнком и устраивать ему новые условия.
– Что же делать? Что же делать? – раз за разом повторял он, расхаживаясь по крошечному номеру гостиницы.
Недобрая мысль о месте, о том, какой удар хватит Модзалевских, когда они узнают, что он отбирает у них внука, затаилась у него в голове и приносила удовольствие.
Он лежал на кровати, всё ещё надеясь, на наконец хоть какую-нибудь реакцию со стороны Модзалевских, как в дверь постучали. Вздрогнув, он пошёл открывать дверь.
Перед ним стоял коридорный, парень лет шестнадцати, и протянул ему конверт.
– От Николая Павловича! – фамильярно промолвил он и медлил уходить, словно чего-то ждал.
– Вон пошёл… – тихо огрызнулся на него Лукомский.
Коридорный ушёл, но за дверью явственно фыркнул.
Лукомский вскрыл конверт и, сделав оскорблённый, достойный вид, приготовился читать «объяснение», а лучше «извинения» Модзалевских.
Однако в конверте ничего такого не было. Не было письма. В конверте находилась лишь фотографическая карточка Елены, та самая, из-за которой всё и началось.
– Не понял… – растерянно произнёс Лукомский, сердито вертя конверт в руках.
Модзалевские выбросили ему этот портрет, как бросают кость дворовому псу, который тот настойчиво просит: – «На, мол, барбос, возьми пожалуйста, и отвяжись». Они, по-видимому, уже окончательно сочли, что теперь можно совершенно успокоиться и вычеркнуть его из своей жизни.
Получив новое оскорбление, Лукомский понял, что теперь придётся реагировать уже ему самому.
Он решил отправить Модзалевским официальное требование о возврате всего, что принадлежит ему, включая сына, в самое ближайшее время. И в случае если ему не будет всё возвращено, пригрозить нежелательными последствиями.
Писал он долго, двадцать раз переделывал черновик письма, а затем раза три переписывал его на листок. Писал он аккуратным писарским почерком, как и положено уважающего себя доктору, а в конце письма поставил свою огромную, размашистую подпись.
Николай Павлович!
Обстоятельства, по-видимому, складываются таким образом, что дальнейшие добрые отношения и близость между нами становятся невозможными. После прискорбного и несчастного для нас обоих происшествия на пристани, которое завершилось, как вам известно, судебным разбирательством, я сделал первый шаг к восстановлению родственных и близких отношений. Я ходатайствовал перед мировым судьей об освобождении вас от, наложенного на вас, законного наказания (о чём вы, конечно, тоже знаете). Сделав этот шаг, я ожидал от вас, что вы пойдёте мне навстречу. Что вы вступите со мной в переговоры, по поводу создавшегося непростого для нас с вами положения. Однако, к моему глубочайшему сожалению, с вашей стороны ничего не последовало, а присланною вами фотографическую карточку моей покойной жены, я истолковал как ваше желание прекратить со мной отношения.
Если я прав (а я надеюсь, что я ошибаюсь), и вы не желаете вступать со мной в переговоры, а желаете ликвидировать всё, что раньше нас связывало и делало семьёй. Тогда я прошу вас назначить день, когда я лично, или через доверенное лицо, если вам так будет удобнее, мог бы забрать у вас всё своё имущество.
Также считаю необходимым сообщить, что отныне я не могу оставить у вас своего сына Александра (как я уже говорил раньше). Во избежание судебного вмешательства, я бы просил вас передать его мне.
Но на другой день, и в последующие дни, ответа от Модзалевских не было.
Лукомский приходил в неописуемую ярость. Для него становилось очевидно, что Модзалевские окончательно успокоились, расслабились и он перестал существовать для них, а значит и отвечать ему на его письма не стоит. Его не существует, можно не переживать.
Но он ошибался. Модзалевские переживали, и переживали сильно.
История на пристани, а также история с судом, и с оскорбительным для Модзалевских решением, особенно удручало Николая Павловича помилование, создали у стариков такое настроение, что теперь им казалось совершенно невозможным какое-либо общение с зятем. Отвечать ему, изъясняться, просить прощение – было ниже их достоинства. Но в то же время они понимали, что всё так долго продолжаться не может. Они переживали, что Саша, идущий на поправку после тяжёлой болезни, будет изъят у них этим человеком, которому нет дела до сына и до его здоровья. Что он не предоставит должный уход ребёнку, и это может вызвать осложнения после болезни.
Их поразило желание Лукомского забрать сына. Ведь у него не было своей жилплощади. «Неужели он собрался жить с маленьким ребёнком в гостинице?» – думали они. И это не давало им покоя в течение всего того времени, что Лукомский приходил в бешенство из-за их молчания, думая, что они, позабыв его, счастливо проводят время.
Несмотря на то, что Лукомский однажды уже заикался о сыне, это теперешнее заявление стало для них полной неожиданностью. Тогда ни Николай Павлович, ни Елизавета Сергеевна не придали значения угрозе зятя. Если Николай Павлович ещё сомневался в своих правах на оставления ребёнка, то Елизавета Сергеевна и думать об этом не желала. Мысль об этом казалось ей нелепой и невозможной.