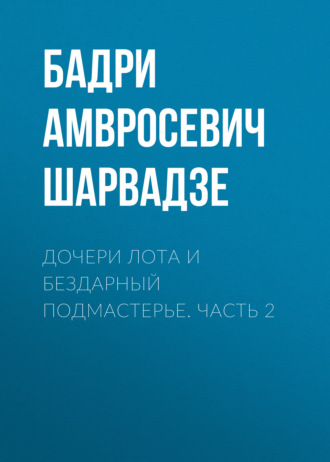
Полная версия
Дочери Лота и бездарный подмастерье. Часть 2
==================================================
начало книги подмвстерья
==================================================
[Бытие, 19]
[1] “И пришли те два Ангела, которые были ниспосланы на землю Богом, чтобы удостовериться в том, что люди по-прежнему оставались людьми, и даже это давалось им с немалым трудом, в Содом вечером, когда наступила пора отдыха для потрудившихся днем и пора для приложения избытка жизненных сил для праздных и здоровых, которых, к людскому ли только посрамлению, в городе проживало не меньше гнущих спину, а то и больше них, и вступили в город, где Лот, один из жителей сей местности, сидел у ворют Содома.
С полной забот и тревожных мыслей душой, отец семейства, может уже не способный ничем выправить положение с матерью его дочерей, его женой, но и при отсутствии всякой возможности помочь дочерям, чувствующий свою обязанность до последнего дыхания напрягать все свои силы для их благополучия, Лот поддерживал себя слабой надеждой, что он еще не уподобился своим согражданам, и несхожесть между ними зиждется не только на обеспеченном природой естественном различии, благодаря которому даже пылинки и те отличаются друг от друга.
Трения с женой давно уже пережили то время, когда выяснение отношений происходило на повышенных тонах и доводило в общем-то терпящих друг друга супругов до изнеможения, причиняло обоим немалую боль, причем мужу большую, ибо он не был отходчив и дольше сопротивлялся попыткам примирения.
Хотя ссоры вспыхивали и в последнее время, но они не доходили до прежних шумных скандалов, чему причиной было не столько наступившее с годами осознание обоими супругами своей беспомощности и бессилия что-либо изменить в характерах другого, сколько все более и более очевидные последствия ссор, все глубже и пагубнее отражавшихся на повзрослевших дочерях, которые, казалось бы, давно уже должны были привыкнуть к ним, но, к огорчению родителей, копили в душе те про тиворечия, которые раздирали семью, и если не взращивали их в родительском доме, приняв сторону одного из родителей, то неизбежно осложнили бы ими свою собственную будущую семейную жизнь.
Со стороны казалось, что старшая дочь сочувствует матери, а младшая – отцу. Но нельзя было быть уверенным в том, что старшая не поддерживает мать с коварным умыслом, чтобы та с ее подпитываемым со стороны сопротивлением в конце концов по терпела полное поражение и что младшая, проявляя сочувствие к отцу, тем самым расслабляет его и делает непоследовательным, ибо он пытается сообразовать свои поступки с переживаниями дочери.
Но и отец не поддерживал младшую дочь, и не только потому, что любил обеих, или, по крайней мере, не допускал, что может предпочесть одну другой. Он хотел честно нести свою долю вины в семейных раздорах, тем более что обязан был быть более терпеливым, так как суть его разногласий с женой заключалась в требовании жены – к которому она пришла после многолетних просьб – по мере возможности приспосабливаться к нравам людей, среди которых они жили, и не идти наперекор принятым обычаям, прежде всего из-за того, что несоблюдение их наносило вред им самим и этому требованию нельзя было отказать и в здравомыслии и разумности.
Но вопреки здравому смыслу Лот, испытавший на себе всю изнанку людской природы и позволявший себе невысоко ценить притворное взаимное расположение, не хотел ни с кем и ни с чем считаться, ставя тем самым в тяжелое положение и себя и своих близких. Он понимал, что его жена имеет внутреннее право противиться непонятному ей упорству мужа, вносящему излишнее напряжение в и без того полную трудностей жизнь.
Его устремление к чему-то иному, лучшему, не покидающее его с первых дней их совместной жизни, скорее отравляло, чем скрашивало ее отношение к мужу. Эта нацеленность отца семейства на то, чем он не обладает в данную минуту и что никак не связано с посюсторонним, омрачала тенью их повседневную жизнь и, с одной стороны, преувеличивала разрыв между желаемым и имеющимся, выставляя подавляющую устремленные ввысь помыслы будничность жизни в еще худшем свете, а с другой – сводила почти на нет редкие светлые мгновения.
VI
Лот боялся за своих дочерей. Он уже свыкся с мыслью, что не смог их воспитать так, как ему того хотелось, и опасался, что еще худших неприятностей следует ожидать в будущем. Это неприятное чувство, нередко полностью завладевавшее им, заставляло его на короткое время удаляться из дома, что в последнее время стало не только заманчивым, но и настоятельно необходимым. Вне родных стен легче было предаваться мечтам и пытаться убедить себя в том, что надежда на улучшение положения имеет под собой хоть малое, но ощутимое основание.
Все более склоняясь к возможности добрых перемен извне, Лот не обманывался относительно того, что неверие в собственные силы уже возведено им в непоколебимую уверенность, и степень увлечения им идеей ожидаемого спасения, лишь отражает глубину его бессилия. Впрочем, уступки жене делались, и немалые. Его самого немного удивляло, что он не воспротивился выбору женихов для дочерей, исходившему от нее.
Долго он не мог признаться себе в том, что его непротивление было вызвано боязнью взять на себя ответственность в определении будущего дочерей. И стоило ли горевать и сетовать на недальновидность, а подчас и неразумность жены, ведь именно благодаря этим своим качествам она способствовала прорастанию таких побегов, без которых прекратилось бы само их существование.
А легко ли ей было терпеть мужа? Если бы она обладала большим разумом, угрызения совести свели бы его в могилу задолго до того, как он стал дедом.
У городских ворот, где обычно собирались горожане, Лот чувствовал себя в толпе более уютно, чем в каком-нибудь укромном местечке.
Оставаясь наедине с собой, он поддерживал себя мыслью, что не похож на них, и мирился как со своей участью, так и с нелегкими раздумьями относительно того, что в общем зле, заедавшем их город, была и его доля. Но будучи с людьми и пересиливая свою неприязнь к ним, он тешил себя тем, что, в сущности, мало чем отличается от них, и все беды, которые осознавались им вместе с ними, увеличивая достоверность его догадок, переносились, тем не менее, более легко, чем можно было ожидать при самых смелых надеждах.
Лот не был единственным из горожан, кто увидел двух ангелов, и, когда стало ясно, что пришельцы направляются именно к нему, встал, чтобы встретить их, и поклонился лицем до земли. Он не был человеком ни приветливым, ни, тем более, гостеприимным, но длительное пребывание в однообразно мрачном настроении и несокрушимая верность своим привычкам делали возможными с его стороны поступки, совершенно неожиданные, противоречащие его натуре, хотя являлись, вернее всего, исключениями, подтверждающими правило. Тем не менее, нельзя было сказать, что угрюмость присуща ему органически или что нежелание принимать гостей является неотъемлемой частью его души.
В тот миг, когда Ангелы приблизились к нему настолько, чтобы хорошо разглядеть их, он почувствовал, что их жизненный опыт, их души, присутствующие в их взглядах, в чем-то главном сродни его опыту, его душе, его сокровеннейшим помыслам, и, полностью покорившись этому впе чатлению, он мгновенно преобразился и хо тел во что бы то ни стало поступить так, чтобы в будущем ему не в чем было упрекнуть себя.
VII
Поклонившись, Лот выпрямился [2] и сказал:
– Рад вас приветствовать в нашем городе, государи мои! Многие из здешних жителей, несомненно более знатные и более достойные, чем я, по закону предков были бы рады оказать вам гостеприимство. Вы, наверно, устали с дороги: зайдите в дом раба вашего. Я и мои домочадцы, моя жена и мои дочери, посчитаем за великую честь принять вас в своем доме. Побудьте с нами, и но чуйте, и умойте ноги ваши, отдохните, и встаньте поутру, и, если вам надо неотложно отправляться, пойдете в путь свой. В радушии и доброжелательности недостатка вы не ощутите, а что касается остального, будет, как Бог этого пожелает и прошу вас не гневаться на готовых от всей души и чистого сердца услужить вам. Будьте милостивы, пожалуйте в дом мой, который да будет и вашим домом."
Путники были тронуты приглашением горожанина, но, не желая стеснять его, равно как и огорчать отказом, вели себя сдержанно, хотя взаимное уважение, зародившееся между ними и Лотом, от этого не пострадало.
Находившиеся поблизости горожане обступили беседующих и с жадным любопытством наблюдали за пришельцами, стараясь не упустить ни одного их слова или движения. Благородство путников бросалось в глаза, и одних уже начала душить зависть из-за того, что они выбрали в собеседники Ло та, других отуманила похоть, ибо ничего более доступного и сладкого, чем удовлетворение своей похоти, они в жизни не ведали и ведать не хотели, а третьих охватил страх, но не от понимания недостойности и греховности желаемого, но из-за нахождения рядом с теми, кто был сильнее их и не допустил бы, чтобы они дотронулись до добычи первыми.
Чтобы почувствовать нагнетание обстановки, не требовалось слов. Лишь когда беспокойство по поводу их неприличного поведения достигло высшей точки, Лот позволил себе взглянуть на пришельцев повнимательнее, на что, наверно, не решился бы без нажима со стороны, будь даже Ангелы у него дома. Своим впечатлениям и ощущениям, возникшим во время беседы с ними, он доверял больше, чем свету своих очей. Эти чувства, к тому же, вполне удовлетворили его при оценке собеседников, но следовало посмотреть на них и глазами сограждан, чтобы не ошибиться в оценке опасности, исходящей от них.
Взволнованный Лот повторил свое приглашение, но они сказали: нет, мы не станем беспокоить вашу семью и переночуем на улице. Мы благодарны тебе за доброту, и если твои сограждане такие же, как и ты, да пошлет Бог благодать на души их и дома их, а тебя, видно, не так легко будет одарить благодеяниями, ибо что еще можно добавить доброму человеку, сохраняющему и поддерживающему в себе доброту свою?
Ангелы в облике людей, видя обеспокоенность Лота и хорошо понимая ее причины, намеренно упомянули его сограждан так, чтобы он понял, что они вполне осознают с кем имеют дело, и успокоился. Но Лот не мог знать об их подлинной силе и о цели их посещения.
Они смотрели на него умиротворенно, и ничего не предвещало грядущих бедствий. [3] Он же тщетно пытался сдержать свое усиливающееся волнение и сильно упрашивал их; и они пошли к нему, и пришли в дом его, провожаемые недобрыми взглядами содомлян.
===============================================
конец главы
===============================================
VIII
Подмастерье вырвал из тетради перелистанные страницы с исправленным кое-где текстом, вложил их в сдернутую для этой цели обложку тетради и понес первую рукописную “лекцию” в залу, на условленное мес то. Сестры еще не выходили из дома, и можно было надеяться, что Аколазия не забудет исполнить его поручения. Вернувшись в свою комнату, он перечел предложение, на котором он прервался, и несколько следующих. Убедив себя в том, что вторая порция для чтения будет подготовлена к сроку, он сложил все материалы в ящик письменного стола и после небольшого перерыва решил наверстать упущенное в занятиях с утра.
Вскоре послышались шаги в зале, оповестившие о том, что сестры собрались на прогулку. Мохтерион не вытерпел и вышел из комнаты. Войдя в залу, он заметил, что тетради на холодильнике уже не было, и так как он застал в зале Детериму с Гвальдрином, мучающий его вопрос был благополучно разрешен. Не успел он поздороваться с Детеримой, как к ним присоединилась Аколазия, и вся компания направилась к выходу.
– Будьте осторожны, – напутствовал их хозяин, прикрывая за ними дверь. – “И не опаздывайте с возвращением!” – проговорил он уже для себя, надеясь, что напоминать об этом Аколазии совершенно излишне.
Примерно через час после их ухода собрался и Подмастерье, который уже привык к сокращению своих дневных хождений. На этот раз у него было дополнительное основание мириться со ставшими почти ежедневными жертвами: он еще никогда не чувствовал такую ответственность за работу и сообразно с ней – никогда не был так занят, что наполняло его
жизнь смыслом, особенно сейчас, пос ле открытия второго “спецкурса” для Аколазии.
Он вернулся домой раньше сестер и сразу принялся за занятия. Некоторое время ему мешали сосредоточиться сомнения относительно переданного Аколазии фрагмента. Он снова и снова возвращался к вопросу о качестве собственного довеска к ветхозаветному тексту. Больше всего его беспокоил вопрос об убедительной мотивации намеченных им конфликтных отношений между Лотом, с одной стороны, и согражданами, женихами, которые вот-вот должны были стать его зятьями, женой и даже дочерьми, с другой. Любая сторона в каждой обособленной мысленно паре отношений между названными членами соотношения должна была рассматриваться всесторонне и без навязывания ей преимущественно одного, господствующего в повествовании взгляда.
Этот господствующий взгляд сводил, конечно, всех соотносящихся с Лотом людей к обремененным человеческими недостатками, большими или меньшими. Но было ясно, что как крайнее облагораживание Лота, так и крайнее очернение всех остальных с самого начала обрекало бы все начинание на несносность нравоучительной болтовни. Разумеется, первому фрагменту еще нельзя было предъявить веских обвинений, но нелишне было отметить для себя уже появившиеся в нем нежелательные тенденции, чтобы избежать их впоследствии. Да, Лот был безукоризненно положительным вначале, а содомляне – сплошь отрицательными, но так ли было на самом деле?
Разве глава семейства, который не сумел обеспечить и поддержать мир в своем доме, действительно так уж привлекателен и безукоризнен? Да и могли ли содомляне, весь грех которых состоял в том, что они были самими собой, бездумно приниматься за прирожденных злодеев? Если люди находятся под влиянием некоторых из своих естественных наклонностей и живут в рамках таких же возможностей, так ли уж они виноваты в том, что их поступки кажутся со стороны неприглядными? Можно ли отождествлять естественные животные склонности людей с ними самими, с их оценкой как неких нравственных существ, которые должны ограничивать себя в своих проявлениях?
Подмастерью не все было ясно, но он принимал такое положение вещей как должное. Полная ясность была бы едва ли не более тягостной, чем полная неопределенность. Тем более что его ожидала работа по освоению еще многих и многих фраз основного текста.
Вместе с тем, образы жены Лота и его дочерей были, как казалось Подмастерью, “же ла- тельно-неопределенными”, и тем легче бы ло придавать им по ходу действия подлинно человеческие черты. В целом Подмастерье обнадеживал себя тем, что некоторые уже обнаруженные им недостатки, вместе с теми, которые могли быть вскрыты в будущем, лишь стимулируют дальнейшую работу при надлежащем отношении к делу, и у него оставалась благоприятная возможность попытаться использовать их для достижения общей цели.
IX
Первые посетители пришли, когда Аколазии еще не было дома. Ими оказались Онир, не дотянувший до Аколазии днем раньше из-за безденежья, и его друг, обликом своим удостоверявший многомерную близость с ним, назвавшийся Кротэном.
Онир сразу же промямлил что-то вроде извинения и достал из кармана несколько купюр среднего достоинства, перекрывающих стоимость визита.
– Ее еще нет. Придется вам подождать. Вообще, деньги я беру после, но, чтобы вы не беспокоились, возьму сразу, как только она придет."
Онир и Кротэн сели на кушетку в зале и смиренно приготовились ждать.
Подмастерье не смог сразу подавить чувство брезгливости, возникшее по отношению к ним. Несмотря на изрядный опыт общения с людьми не своего круга и длительную психологическую подготовку к необходимости иметь с ними дело, он не мог привыкнуть к ним, и почти всякий раз ему приходилось припоминать шаг за шагом все обстоятельства, вынуждавшие к общению с ними. А ведь весь его образ жизни складывался как реакция на долго зревшее нежелание иметь какие-либо отношения с людьми, которые отличались не в худшую сторону от таких, как Онир и Кротэн, не говоря уже об их общем друге Подексе.
Миновали те времена, когда он мог искренне похвалить себя за свою способность услуживать и улыбаться всем, кто не страдал импотенцией или вознамерился проверить потенцию и кто самыми различными способами попадал в его дом. А ведь Онир и Кротэн были, может, всего лишь непригляднее других, но не более чуждыми ему, чем подавляющее большинство остальных.
Ясно было, что “освобождение от предрассудков”, паро лем которого было наличие небольшой суммы в кармане всякого существа определенного пола, давалось очень дорогой ценой, а, глядя на Онира и Кротэна, Подмастерью казалось, что эта цена еще повышается. Редко одолевающие его, как теперь, тягостные сомнения переходили в злость, и тогда уже нечего было надеяться на сколько-нибудь удовлетворительное и разумное их разрешение.
Конечно, Кротэн не был повинен в существовании автомеханических мастерских, куда, может быть, привела его развившаяся с детства любовь к молоткам и всяким жестянкам. Еще меньше был он повинен в том, что детали машин и горячо любимые им инструменты не составляли всей его жизни, и в том, что они неспособны были удовлетворить то, что иногда его беспокоило с тупым постоянством. А кому пришло бы в голову винить его в факте его появления на свет?
Но, с другой стороны, обладая подобным набором данных и встречая человека с другим, не слишком отличающимся от него набором, он создавал то, что из сплошных невинностей возникали сплошные виновности и порой, всего пространства мира не хватало для того, чтобы избежать тягостных столкновений с ними. И вспышки злобы, и бесстрастные длинные цепочки умствований завершались одинаково и тривиально: призывами терпеть, стиснуть покрепче зубы и улыбаться всем в знак признания собственной доли в общей вине.
X
Подмастерье оставил клиентов в зале и перешел в свою комнату. Прошло не меньше получаса, пока послышалось знакомое лязганье ключа в замочной скважине. Он быстро поспешил к двери, ибо не хотел, чтобы ожидающие в зале гости увидали Детериму.
– Детерима, пожалуйста, зайдите через другую дверь. Она рядом, надо лишь пройти несколько шагов вдоль стенки. Аколазия вам откроет, – сказал он ей, заслонив собой вход и сделав полшага к каменной ступени крыльца.
Гвальдрин побежал в комнату, опередив мать. Аколазия поздоровалась с гостями и, не дожидаясь ответной реакции, вошла к себе. Следом за ней зашел Мохтерион, который вызвался сам открыть дверь Детериме, чтобы сократить время ожидания клиентов на несколько секунд.
– Почему вы запоздали? – спросил Мохтерион тоном, свидетельствующим о его беспокойстве в связи со своевременным обслуживанием ожидающих.
Аколазии не нужно было делать дополнительных усилий, чтобы угадать первопричины недовольства сослуживца.
– И не спрашивай! Еле вытащила Детериму из универмага. Из-за нее мы там и пообедали.
– А я думал, вы застряли в историческом музее.
– Что нам там делать!
– Да ведь он по дороге к универмагу!
– Тем хуже для музея, – отрезала Аколазия, почти готовая к выходу.
– Все равно, хвалю, – подобрел Подмастерье, вдруг смекнув, что посещение Детеримой универмага скорее поможет ей дозреть до ожидающего ее дела, чем обход всех музеев города и даже всех исторических памятников страны. Тем самым он вынужден был признать
превосходство над собой Аколазии в проницательности и усердии на благо их общего дела.
– Детерима, присмотри за Гвальдрином, а ты не смей баловаться, – напомнила о себе сыну Аколазия и вышла в залу, куда еще до нее вошел Подмастерье.
Онир не стал ломать себе голову над вряд ли ведомой ему уступчивостью и не подумал сдвинуться с места, когда Мохтерион обратился к обоим и попросил одного из них перейти на время в его комнату. Кротэн также не сдвинулся с места, и, когда Ониру стало ясно, что другу требуется помощь, он хлопнул его по плечу и смеясь сказал:
– Кротэн, не зевай, хозяин ждет."
Кротэн, явно раздосадованный перспективой дальнейшего ожидания, тем не менее проявил самообладание и смирился.
– Куда? – спросил он Мохтериона, неохотно вставая с насиженного места.
Мохтерион вышел вместе с ним, надеясь, что суточное испытание, выпавшее Ониру, не позволит ему слишком долго затягивать с прелюдией; пожалуй, подобное счастье улыбалось ему не много раз за всю его жизнь.
Во время второго ожидания Кротэн вел себя безукоризненно; он не произнес ни одного слова, что позволило Мохтериону без помех копаться в книгах. Это давало надежду на то, что и в обнаженном виде Кротэн поддержит свою репутацию, завоеванную в прикрытом одеждами виде.
По прошествии некоторого времени стало ясно, что Онир особенно не торопится с выходом, но к его чести следовало сказать, что до оценки его визита как умышленной задержки дело не дошло. Примерно через полчаса затянувшееся ожидание Кротэна подошло к концу.
Оставшийся на время в комнате Подмастерья Онир показал себя не хуже друга, что позволило Подмастерью не только похвалить его в душе и не только не потерять время за столом, но и творчески воспламениться, придя к твердому заключению, что молчаливость – украшение не только женщин, как думали древние греки, которые, конечно же, не были застрахованы от мелких оплошностей, но и мужчин.
Через четверть часа Кротэн был готов в обратный путь вместе со своим поводырем, и в награду за оперативность Подмастерье при прощании одарил его ласковым словом, предложив заходить в любой день, но в определенное время. Онир не среагировал на несправедливость хозяина и если что и подумал, то видимо, то, что такое же право закреплено за ним само собой разумеющимся образом.
XI
Мохтерион зашел в залу в надежде застать там Аколазию и поговорить с ней об успехах, достигнутых в деле приручения Детеримы, но она успела все прибрать и уйти к себе. Он решил не беспокоить ее и вернулся к себе.
Часы, отведенные для приема посетителей, уже прошли, когда только что закончивший занятия Подмастерье услышал стук в дверь. Тортор, не пропустивший со своего первого прихода ни одного дня, и на этот раз предстал перед утомленным дневными трудами хозяином дома. Он и в этот раз оказал дому двойную услугу, явившись с еще одним знакомым, впервые переступившим его порог.
– Морус, заходи! – уже как в родной дом пригласил спутника Тортор, и Подмастерью стало ясно, что он слегка подвыпил.
– Проходите, проходите, – сказал Мохтерион, вводя их в свою комнату, с некоторым недовольством из-за несоблюдения посетителями часов приема.
– Не удивляйся, Мохтерион, но сегодня я вне игры, – присев на диван, сказал Тортор.
– Морус, один из ближайших моих друзей, хотел бы познакомиться с тобой.
– Очень рад, – сухо ответил Подмастерье, инстинктивно настроившись на худшее.
Морус достал из сумки завернутый в газету довольно большой предмет, оказавшийся трехлитровой банкой с прозрачной жидкостью.
– Может, отметим наше знакомство, – предложил Морус, который оказался трезвым. – Чистый медицинский спирт, высшее качество, – добавил он, и пояснил соответствующей фигурой с прямым углом из пальцев.
– Разве Тортор не говорил вам, что я не пью?
– Как?! Вообще?
– Вообще!
– Тортор, может, нам вдвоем заполнить про бел? Как ты насчет “мирной” дозы, а?
– Морус, я предпочел бы водочку из холодильника, а твой спирт, наверно, уже закипел, пока мы поднимались сюда.
– Ну, брат, не смей корчить из себя знатока! Чище и здоровее медицинского спирта нет ни одной жидкости на свете, – огорчился Морус, не найдя поддержки у неграмотных мужиков.
– Извините, вы врач? – спросил Мохтерион.
– Я не врач, я больше, чем врач. Без моей помощи они как слепые щенки.
– Ну, ты хватил, – рассмеялся Тортор. – Какой-нибудь винтик приделаешь к инструменту, да, может лампочку поменяешь в операционной, а туда же – больше, чем врач.
– Знаешь что, дорогой Тортор! Ты только не обижайся, но я тебе скажу прямо: ты ни
черта не смыслишь в моей работе!
– Послушай, мы пришли сюда ругаться или…
– Вот именно! Вот именно! – воскликнул Морус и поставил банку с чудодейственным напитком на пол.
В это время они услышали, что кто-то нажал на ручку, и в комнату заглянула Аколазия.
– Аколазия, шалунишка, где же ты столько времени, мы здесь тебя заждались, – опередил всех Тортор и простер к ней обе руки, как бы приглашая присесть к нему на колени.
Но похоже было, что Аколазия вовсе не собирается садиться. Морус взглянул на нее довольно равнодушно.

