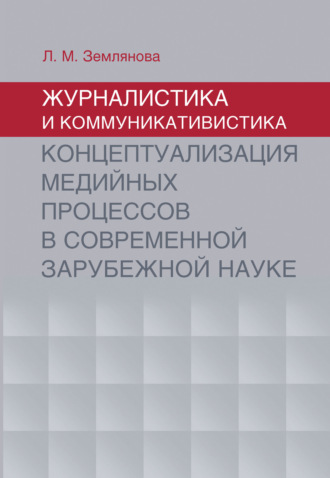 полная версия
полная версияЖурналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в современной зарубежной науке
Осуждению подвергается пропаганда насилия, экстремизма и терроризма, нарушение принципов равноправного доступа к информационным ресурсам и достижениям научного и социального прогресса. Новые аспекты появляются в критике новостных дисбалансов, против которых выступали участники Движения за новый мировой информационный и коммуникационный порядок еще в 1970-е годы. В XXI веке, когда тенденции к монополизации новостных потоков получают поддержку со стороны новейших электронных технологий, усиливающих мощности процессов глобализации, объектом осуждения становится игнорирование национальных интересов и исторических особенностей возрождения слаборазвитых стран, остро нуждающихся в развитии собственной технологической базы и правовых структур для равноправного и ответственного доступа к ресурсам общечеловеческого медийного прогресса.
На страницах международных журналов коммуникативистов звучат призывы «больше привлекать общественность к вопросам медийной ответственности», обеспечивающей получение надежной информации «в соответствии с высокими стандартами этики и профессионализма» и с целью создания «системы совместного регулирования»[167], в которой могут объединяться различные формы наблюдения за качеством новостей, их точностью, честностью, справедливостью при отражении общественных прав и ценностей, связанных с партисипационной ответственностью медиа. Эта позиция коррелируется с «отходом от индивидуалистического фокуса западного либертарианства в сторону общественно ориентированных на граждан подходов» [168].
С такой рекомендацией согласуется и предложение больше внимания уделять повышению грамотности всех участников медийных процессов – и создателей, и потребителей информации, нуждающихся в знании норм этики и ответственности, с которыми можно было бы знакомиться на специальных курсах медиаобразования, рассказывающих о коренных принципах регулирования и саморегулирования деятельности журналистов и СМИ, благодаря которым «профессиональные ценности могут больше ориентироваться на кооперирование, нежели на конкуренцию. Это требует и движения в сторону от рыночно ориентированного подхода к журналистской этике»[169] и соответственно к «большей репрезентативности общественности в процессах подотчетной ответственности», а также к большему соучастию в различных общественных преобразованиях, в круг которых включается реформа образования, нацеленная как на «интеграцию теории и практики в образовании журналистов», так и на «расширение концептуализации журналистских процессов»[170].
Такие идеи и предложения нацеливают на своевременное исследование особенностей меняющихся медиаландшафтов мира, которые по-новому актуализируют обсуждение проблем социальной обусловленности информационных коммуникаций. К числу этих особенностей относится, например, влияние миграции на состав аудитории для традиционных СМИ и на овладение новыми электронными медиа. Живя в эмиграции, люди оказываются в окружении коммуникационной техники, требующей знания разных языков – родных и чужеземных, без которых может теряться доступ к тем или иным СМИ. В семьях это приводит и к расколам, если отцы и дети оказывают предпочтение разным языкам и разным источникам информации, по-разному влияющим на образ их жизни и мышления. Процессы такого рода имеют сложную динамику не только из-за различного отношения старого и молодого поколения к традициям родной культуры, которые могут вытесняться обычаями принявшей их другой страны, но и благодаря влиянию сетей глобальных коммуникаций. С их помощью можно получать сведения о событиях в покинутой родине и находить «компромисс между различными интеграционными сценариями, поскольку они позволяют членам семьи разных поколений располагаться в “нейтральном” культурном домене скорее, нежели иметь дело со спорными вопросами» в поисках «новых идентичностей»[171].
Разумеется, это не означает ограничения диапазона исследуемых явлений и сведения их к минимуму очевидных изменений в содержании информационных сообщений и техники их распространения. Во избежание поспешных оценок и прогнозов социальной ответственности журналистики и СМИ в меняющихся условиях следует совершать более разносторонние системные анализы перемен во взаимосвязях между социумом и медийными процессами.
Особого внимания в этом отношении заслуживает Интернет, так как в этой сфере комммуникаций с новыми зонами общения актуальность и сложность проблем изучения социально-партисипационной ответственности всех участников этих коммуникаций усиливаются. Недостаточность контроля за доброкачественностью распространяемой в глобальных масштабах информации беспокоит исследователей, констатирующих отсутствие надежных гарантий недопустимости клеветы, искажений фактов, несоблюдения этических норм и других правонарушений. Это вызывает необходимость организации сотрудничества специалистов, изучающих на международном уровне возможности «гармонизации» законов разных стран в целях достижения «международного соглашения относительно гражданских правонарушений в Интернете»[172].
Но гармонизация законов разных стран для Интернета не может быть достигнута без знания истории и традиционных особенностей их культур, изучаемых в качестве «диалектических процессов». Они могут иметь свои особенности в отличающихся друг от друга обществах, сообществах и контекстах, ибо «каждое общество и сообщество должны пытаться создавать собственную стратегию устойчивого развития»[173]. В этом утверждении опять-таки резонируются идеи, характерные для Движения за новый мировой информационный и коммуникационный порядок, защищавшие в 1970-е годы права народов на сохранение своих национальных культур в едином, но многоголосом мире.
В XXI веке также борьба в коммуникативистике ведется за «единый, но многокультурный мир». Подчеркивая важность социально-культурных факторов развития стран и мира в целом, она не отрицает необходимости учитывать и другие факторы (например, экономические для развития СМИ), как и отсутствие полного единства мнений среди изучающих их специалистов. Любые возможные концептуальные разногласия надо преодолевать в диалогах, не упуская, однако, соблюдения принципов «совместной ответственности»[174] за состояние развития общества. Для этого предлагается усиливать внимание к содержанию медийной информации, нацеливая ее на повышение качества сообщаемых знаний, необходимых для улучшения программ образования людей как важного условия эффективности их совместной ответственности за решение назревающих социально-культурных проблем. Ибо «социальная мобилизация» всех сил, заинтересованных в достижении функционального единства между информацией, коммуникацией и образованием, поможет включать и в развлекательные программы элементы просветительского назначения – «эдьютейнмента» (аббревиатурное объединение слов entertainment – развлечение и education. – просвещение образует термин edutainment). Такая «партисипационная модель» означает не отказ от профессиональной роли журналистов, а право соучастия граждан в деятельности СМИ по принципам «партисипационной стратегии», приучающей людей к социально ответственному поведению для умения жить в сообществах.
Осуществлению программ подобного типа должен помогать «социальный маркетинг»[175], обдумывающий и создающий, распределяющий и контролирующий социальные идеи и способы их реализации с помощью коммуникационных средств, предназначенных прежде всего для просвещения людей. В этом процессе должны принимать участие и специалисты, работающие в университетах, которые «являются важными ресурсами знаний, информации и обучения»[176]. Им требуются многосторонняя поддержка и связи с различными заинтересованными институтами для исследовательской деятельности и подготовки новых кадров с социально-партисипационным подходом к коммуникационным процессам. В этом контексте образование журналистов и коммуникативистов имеет важное значение. Обучающие институты должны получать поддержку и сами ее оказывать новому поколению, помогая ему энергично и профессионально грамотно включаться в социально ответственное решение задач общественного прогресса.
Глава X
Трансформация медийных систем и новые тенденции в развитии коммуникативистики XXI века
Начало XXI столетия – период значительных достижений и сложных противоречий в преобразованиях медийных систем, происходящих в разных странах мира. Благодаря развитию новых электронных информационно-коммуникационных технологий улучшаются возможности согласованного и своевременного решения назревающих проблем в различных областях жизни – от экономики и политики до культуры, науки и образования. Но не исчезли силы, пытающиеся использовать приоритетные качества этих технологий для разжигания очагов сепаратизма, терроризма и военных действий одних стран против других и между различными этническими общностями. Негативную роль играют и трактовки трансформации медийных систем с позиций теорий, ведущих общественно-научную мысль к игнорированию или искажению гуманитарных функций информационно-коммуникационной техники.
Журналистика не остается в стороне от этих разнородных тенденций. Меняются ее технологический базис и профессиональный статус в условиях, когда усиливается, с одной стороны, конкуренция между традиционными и новыми электронными медиа, а с другой стороны, появляется опасность деквалификации из-за растущего влияния медиабизнеса и блогерства в медиасфере. Противоречивость и незавершенность таких процессов предопределяют актуальность их осмысления в коммуникативистике на основе модернизации методологических принципов этой науки и даже таких базисных понятий, как СМИ – средства массовой информации, когда речь заходит о специфике новых электронных медиа.
Исследования устанавливают существенные различия между «вертикальными» и «горизонтальными» формами распространения информации в традиционных и новых медиа, с которыми связаны особенности контента и кавериджа, функций и потенций коммуникабельных сообщений. Несмотря на разнообразные пути неизбежного преобразования прессы, радио и телевидения, вступающих в конвергентные отношения с онлайновыми разновидностями новых технологий, свой коренной атрибут – распространение информации для массовой аудитории «вертикально», «сверху вниз» – традиционные СМИ стараются оберегать. В Интернете же преобладают «горизонтальные» линии связи, рассчитанные не столько на массовую аудиторию в целом, сколько на ее фрагментацию и индивидуализацию по желанию пользователей. Функциональные взаимосвязи между информацией и коммуникацией сохраняются и в традиционных, и в новых медиа, но в Интернете обретают более партисипационный характер горизонтально-интерактивных общений между пользователями, нежели вертикальный при распространении информации для массовой аудитории из традиционных СМИ, хотя они тоже претерпевают модификацию благодаря процессам ремедиации.
Слово mass в термине mass media, обозначающем средство информации для масс, становится как бы менее обязательным и игнорируется применительно к Интернету, если коммуникации воспринимаются как способы распространения информации, которая может интересовать многих пользователей, но не всех, так как она адресуется желающим ее получить благодаря доступу к индивидуализированным формам общения с Интернетом, которые образуют своего рода «демассифицированную» аудиторию.
С выгодой для себя пытаются использовать новые медиа и представители медиабизнеса, занимающиеся, как и прежде, производством и продажей информационно-коммуникационной продукции, но теперь товаризованной на новый лад. Широкому сбыту подлежат не только предметы программно-информационного обеспечения (software), но и технологическая аппаратура (hardware), необходимая для деятельности электронных средств связи. И поскольку все эти новации тоже подвергаются постоянной модификации, аналитики предлагают толерантно относиться к плюрализации терминов при определении реальных и потенциальных возможностей онлайновых коммуникаций. Интернет называют в разных исследованиях «местом», «ареной» или «средой» распространения информации, а то и средством создания особой «виртуальной культуры», подразумевающей особый образ жизни из-за привычки людей искать ответы на волнующие их вопросы в виртуальном пространстве экранизированной информации. Поэтому допустимым считается название Интернета «гибридным средством», требующим «гибридных способов» его концептуализации на основе междисциплинарных анализов при объединении усилий специалистов разных профилей и разных стран, интересующихся такими научными методами, которые открываются в дисциплинах и традициях иных, нежели их собственные[177].
Поиски новых междисциплинарных подходов к изучению трансформирующихся систем, которые распространяются в период значительных перемен на геополитической карте мира и глобального финансово-экономического кризиса, ведут к тому, что не только журналистика, но и коммуникативистика как наука, призванная изучать гуманитарные функции медийных процессов, оказываются перед необходимостью отказа от прежних доктрин, утверждавших курс на деидеологизацию СМИ. Такие доктрины создавались еще в прошлом веке в соответствии с претензиями крупных монополий на глобальное лидерство в производстве товаризованной информпродукции и вкупе с ней идей консьюмеризма и конформизма для массовой культуры, распространявшейся по всему миру.
В XXI веке не без влияния трансформации медийных систем в коммуникативистике растет потребность в сравнительно-исторических междисциплинарных методах их анализа с целью выявления как разнообразных способов фреймирования новостей, так и их идеологической роли в различных социально-политических и культурных контекстах. Усиливается внимание к изучению глобальных и глокализационных тенденций в мультимедиатизации мира, отражающих стремления разных стран к сохранению своих национально-государственных и исторических традиций. Становится более дискуссионной теоретическая концептуализация проектов будущего информационного общества, сопровождаемая критикой невнимания прогнозистов к конкретным экономическим, политическим и социально-культурным механизмам распространения новостей в традиционных и новых медиа, которые могут использоваться в интересах либо защитников принципов демократизма и гуманизма, равноправия и справедливости, либо – сторонников сохранения дисбалансов в мировом информационном и коммуникационном порядке и «цифровых расколов» в тех или иных странах.
Междисциплинарные методологические подходы помогают выявлять не только технологические и экономические факторы и результаты преобразования медиаландшафтов мира, но и их системные взаимосвязи с переменами в других областях жизни – с политикой, культурой, наукой. Об этом свидетельствуют данные контент-анализов, раскрывающие зависимость процессов дискурсивного фреймирования новостей от тех осевых тенденций в международных отношениях, которые сопряжены с борьбой различных идеологических сил, и поэтому для правильного диагностирования их причин требуются «транснациональные исследования медиа»[178] в сочетании с изучением национально-локальных ситуаций. Иначе остаются не решенными многие глобальные проблемы, включая и те, которые обусловливаются предвзятым отношением к освещению жизни слаборазвитых стран в информационных потоках, распространяемых крупными медиакорпорациями, которые претендуют на роль «детерминантов кавериджа международных новостей»[179].
Симптоматично в этой же связи и расширение круга исследований, выявляющих различия в выборе и трактовке международных новостей с разных идеологических позиций для аудиторного восприятия. Это способствует формированию аргументов в защиту представления таких новостей в справедливой и объективной манере, а не тенденциозно. С такой целью в коммуникативистике множатся призывы к «раскрытию горизонтов и усвоению мультидисциплинарной перспективы, которая включает анализы как национальных политических процессов, так и глубокое понимание динамики новостной продукции в каждой медийной организации»[180]. В итоге это помогает изучению «социологии новостей»[181], чтобы учитывать различные факторы, влияющие на их контент и каверидж в разных жизненных обстоятельствах, причастных в том или ином качестве к процессам формирования новостной продукции как в отдельных странах и регионах, так и в более широком медиапространстве. Это необходимо для выявления не только локальн-онациональной специфики, но и связей медийных тенденций с общемировыми процессами в общественной жизни человечества и в первую очередь с такими, которые вызывают беспокойство исследователей именно информационно-коммуникабельной энергетики современной цивилизации и ее будущего.
Об этом свидетельствуют, например, материалы Всемирного конгресса международной ассоциации исследователей массовых коммуникаций, состоявшегося в 2008 году в Стокгольме под выразительным названием «Медиа и глобальные разъединения». Они были опубликованы в журнале «Нордиком ревью» с пожеланием дальнейшего расширения изучения затронутых на конгрессе проблем для стимулирования «межкультурных, перекрестно-культурных диалогов исследователей и вдохновления их на новые научно-исследовательские инициативы»[182].
Участники конгресса высказывались за объединение усилий в обретении новых возможностей для продвижения социальных перемен и развития медийного многообразия, нужных для понимания сути и причин «глобальных разъединений всех видов» и «возрастающей сложности медиаландшафтов»[183]. В этой связи провозглашалась важность междисциплинарных подходов к изучению медийных факторов углубления или ликвидации социально-культурных и идеологических расколов, возникающих в отношениях между странами и различными слоями населения на почве неравенства, отсутствия взаимопонимания, сотрудничества и коммуникабельности. Критике подвергались медиасистемы, которые уклоняются от решительной борьбы против ликвидации в слаборазвитых странах нищеты, неустроенности и неграмотности, не проявляя подлинной солидарности с теми общественными силами, которые выступают против таких невзгод и ограничиваются акциями мнимого милосердия с разными «филантропическими капризами»[184].
Некоторые аналитики полагают, будто бы появление Интернета и мобильной телефонии в слаборазвитых странах само по себе уже может свидетельствовать об улучшении их жизни. Но более глубокие исследования коммуникативистов показывают, что прежде чем это утверждать, надо конкретно выяснить, какими демократическими ресурсами обладают новые электронные медиа и чем они отличаются от традиционных СМИ в своем воздействии на аудиторию и ее роль в информационно-коммуникационных процессах, формирующих те или иные состояния общественной жизни и публичных медиасфер в социумах. Это поможет понять и необходимость отказа от иллюзий технологического детерминизма, препятствующего переходу к системно-историческим анализам социально-экономических средств помощи слаборазвитым странам.
Результаты исследований коммуникативистов приводят к выводу, что на нынешнем этапе трансформации медийных систем изменения наблюдаются и в характере их отношений с аудиторией, которая под воздействием коммуникационных технологий способна становиться активным соучастником информационных общений. Но массовость восприятия информационных сообщений из традиционных медиа благодаря Интернету и мобильной телефонии дополняется и более фрагментированной информацией, получаемой из новых электронных медиа. Она может использоваться в интересах сторонников как объединения, так и разъединения идейных позиций разных пользователей, а следовательно, оказывать и разобщающее воздействие и на сегментированную аудиторию, и на состояние публичной сферы в медиапространстве различных стран.
Если ранее в трудах Юргена Хабермаса и его единомышленников, занимавшихся изучением проблем публичной сферы, это понятие воспринималось в соответствии с представлениями о возможностях СМИ в формировании единства аудиторных вкусов и взглядов, то новые медиа, по словам аналитиков, «нишефизируют» аудиторию, приучая ее к многообразию персонализированных отношений к информации, получаемой из Интернета. Поэтому о необходимости новых подходов к изучению публичной сферы в условиях бурного развития процессов трансформации медийных технологий говорится во многих работах современных коммуникативистов. Онлайновый журнализм, по их наблюдениям, «имеет тенденцию становиться более самоизолирующимся и основываться на самоселективности и персонализации». Критерии для таких качеств формируются тоже нередко с претензией на защиту собственных представлений и свободы их выражений в публичной сфере. На самом деле «это подтягивает к жанрам приватной коммуникации», а «ответственность, которая обычно олицетворяла публичную коммуникацию (публичность), в меньшей степени принимается во внимание как естество такой интерактивности»[185].
Разумеется, не следует категорично утверждать, что в сетях Интернета ответственность игнорируется вообще, но пониматься и выражаться в этой сфере она может по-иному, нежели в традиционных СМИ, из-за меняющегося статуса как журналистики, так и аудитории, способных выступать в роли и приобретателей, и распространителей разнообразной информации одновременно. Благодаря этому «реальная информация и коммуникация в Интернете продуцируются и потребляются в культурном, демократическом и политическом плане сегментами публики»[186]. Тогда как более целостное представление о публичной сфере могли создавать прежние концепции, скоординированные с деятельностью традиционных СМИ, а не с новыми электронными медиа, сопряженными с тенденциями к дифференциации их меняющейся роли в современном медиапространстве мира.
Словом, в коммуникативистике различия между традиционными и новыми медиа изучаются тщательно и осмотрительно, так как процессы их трансформации продолжаются и следы этого ощутимы в различных областях жизни, включая и такую, казалось бы, основанную на древнейших традициях сферу духовности, как религия. По наблюдениям аналитиков, возникает так называемая «киберрелигия», а это чревато отклонениями распространяемых в Интернете ее концепций от строгих догматов церкви. Индивидуализируясь, идеи «киберрелигии» «превращают религию в более персональный, нежели социальный предмет»[187].
Таким тенденциям способствуют стремления к изощренной имитации реальности в виртуальных имиджах, создаваемых на экранах видеотехники и особенно в компьютерных играх, к которым зрители обращаются не только с развлекательными, но и познавательными целями. Игры действительно могут помогать развитию творческих потенций людей, проверке их знаний и постижению новых с помощью креативного воображения. Они полезны для профессиональных тренировок в области разных специальностей и для занятий в учебных заведениях. Но в этой деятельности необходимо понимание и соблюдение различий между реальностью и ее имитацией, чтобы не подменялись познавательные цели беспредельным фантазированием, провоцирующим отказ от здравомыслия в конструировании имиджей, римейков и пародий, насыщенных искажениями ценностей и устоев культуры и науки.
Это условие коммуникативисты рекомендуют учитывать при внедрении компьютерных технологий в различные сферы жизни, включая и экспериментальную экономику, которая также «открывает как новые возможности, так и новые проблемы»[188], обладая большими образовательными и коммуникационными потенциалами, но вместе с тем и заостряя вопрос о качестве знаний, обретаемых именно таким образом. Должно быть, не следует оставлять в тени вопрос о последствиях чрезмерного увлечения виртуализированными играми с экономикой вместо более реалистического применения методов ее развития и изучения без технологического детерминизма, но с большим вниманием к конкретным человеческим факторам и измерениям социально-культурного прогресса.
Темы для новых дискуссий в ходе развития процессов трансформации медийных систем в коммуникативистике возникают постоянно. И чем больше полемических мнений высказывается, тем актуальнее становятся задачи совершенствования методологического базиса коммуникативистики и с ее помощью модернизации программ медиаобразования. Они должны носить разноаспектный характер, чтобы обучать граждан разных стран не только правилам пользования информационной техникой, но и умению верно понимать и оценивать происходящие в мире события, о которых сообщается в различных медиа, функционирующих в странах с разнообразными историческими традициями и условиями жизни. С этой целью предлагается концепция так называемой «транснациональной медиаграмотности»[189], то есть внедрения комплекса знаний, которые могут помочь предотвращать раздоры между странами и народами с различными этнорелигиозными и национально-культурными традициями и не вести информационные войны, убеждая журналистов в недопустимости провокационных публикаций и клеветнических заявлений в адрес тех или иных стран. Транснациональная медиаграмотность, по мнению автора статьи на эту тему, опубликованной в журнале «Нордиком ревью» в 2009 году, подразумевает «сочетание локальных и глобальных перспектив в журнализме»[190] и «сотрудничество между исследователями медиа и педагогами, выходящее за пределы континентальных барьеров»[191].

