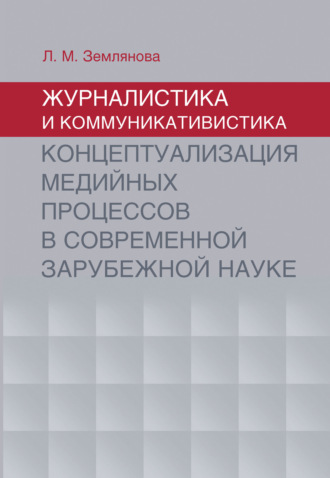 полная версия
полная версияЖурналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в современной зарубежной науке
Тоффлер в своей книге «Третья волна» выделял в истории цивилизации три волны: аграрная (до XVIII века), индустриальная (до середины XX века) и постиндустриальная, отличающаяся от предыдущих тем, что все характерные для нее структуры общества, образ жизни и сознание людей оказываются в системной зависимости от влияния электронных медиатехнологий. Критикуя вторую волну за преобладание рыночных принципов во всех сферах жизни, за безжалостную эксплуатацию природных ресурсов, за отрыв производителя товаров от потребителя, за стандартизацию форм быта и омассовление вкусов, футуролог ратовал за ликвидацию разъединения между производителями и потребителями путем создания с помощью компьютерной техники нового типа экономики – просьюмеризма (аббревиатурное соединение слов producer и consumer), обеспечивающего производство и потребление нужных товаров в «электронных коттеджах». Такая организация труда, по мнению Тоффлера, может привести к демассификации инфраструктурных связей в обществе и культуре, перенося их на экраны компьютеров.
В книге обольстительно рекламируются и другие новации тотальной компьютеризации общественной жизни, но игнорируется вопрос о собственности на компьютерную технику и цене за ее приобретение. Рыночные принципы «второй волны» критикуются, но не приводятся доказательства их исчезновения на «третьей волне». Результатом ее развития объявляется «огромный скачок в усилении значения информации, которой мы обмениваемся друг с другом. И это именно то усиление, которое объясняет, почему мы превращаемся в информационное общество»[151].
Нельзя не признать, что в отличие от постулатов Маклюэна, прогноз информационного общества Тоффлера, несмотря на утопичность его веры в панацейную миссию компьютерной техники, все же апеллирует к силам прогресса и призывает не к возврату осязаемого мира первобытных времен на электронной основе, а к обогащению запаса новых знаний об окружающей человека интеллектуально-информационной среде, с которой он должен находиться в благотворных для природы и цивилизации связях. «Во всех предшествующих обществах, – писал Тоффлер, – информсфера обеспечивала средствами общения между людьми. Третья волна размножает эти средства. И впервые в истории она также обеспечивает мощные возможности для коммуникаций между машинами и, что еще более удивительно, – для ведения разговоров между людьми и окружающей их информирующей средой»[152].
К сожалению, Тоффлеру не удалось освободиться от концептуальных уз технологического детерминизма и в XXI веке, когда в работах многих коммуникативистов акцент переносится на гуманитарные аспекты проектов информационного общества. В книге «Революционное богатство. Как оно будет создано и как оно изменит нашу жизнь» в пафосно-риторическом стиле прославляется технологический фасад, присущий «революции третьей волны», «поскольку она порождает поистине невероятные технологии. Но как индустриализация и модернизация она также означает всеобъемлющую смену цивилизации. Несмотря на все колебания на фондовых биржах и прочие препятствия, новая революция будет неуклонно продолжать шествие по земному шару», – говорится в заключительной части книги, которая заканчивается словами: «Поистине все мы живем в захватывающее время! Добро пожаловать в XXI век!»[153] Звучат эти строки оптимистично, но без должной научно убедительной аргументации обретают химерический оттенок.
В ином концептуальном ключе написана трилогия Мануэла Кастеллса «Информационный век: экономика, общество и культура», как бы предвещавшая решительное наступление третьего этапа в эволюции теорий информационного общества, когда развивается более детальное сравнительно-историческое изучение воздействия новых электронных медиа на прогнозирование будущего мира с позиций не технологического детерминизма, а более социально обоснованного, с гуманитарными подходами к судьбам и нуждам людей, к их гражданским правам на доступ к достоверной информации и средствам ее получения в целях не отлучения, а приобщения к достижениям социально-культурного прогресса. Такие подходы переносят акцент с коммуникационной техники как таковой на конкретное изучение достоинств и условий ее использования при переходе к информационному обществу и на особенности этого процесса в разных исторических ситуациях.
В трилогии Кастеллса рассматриваются национальные и общемировые, государственные и социально-культурные, этнорелигиозные и многие другие влиятельные и конфликтующие тенденции в условиях глобализации и глокализации медийных процессов. Это дает автору возможность разносторонне прослеживать, каким образом «медиабизнес становится глобальным, обладающим капиталом, талантами, технологией и корпоративной собственностью, опутывающей весь мир за пределами национальных государств»[154]. Этот процесс активизируют и медиа, стремящиеся к независимости, с которой государство должно соглашаться, чтобы не нарушать принципы демократии. И «круг замыкается: любая попытка ущемления свободы обретает политическую значимость», так как граждане, не всегда разбирающиеся в точности новостей, ревностно защищают привилегию получать информацию из источников, не подчиняющихся государству. «Поэтому даже авторитарные государства терпят поражение в борьбе с медиа в информационном веке»[155].
В отличие от Маклюэна, объясняя такое явление, Кастеллс не утверждает, что само средство и есть сообщение. Он придерживается иной концепции, согласно которой политика под влиянием медиа начинает использовать в своих интересах даже такие способы гонки за аудиторные рейтинги, как развлекательные программы. Это ведет к тому, что не политические программы, а сами политики, их имена и имиджи становятся главными действующими лицами в инфотейнментах или политейнментах в формах подачи политических новостей в сочетании с развлекательными элементами. В таких программах не средства сообщения, а его носитель (messenger) обретает ведущую роль, если личность политика, а не суть его деятельности оказывается в фокусе внимания. Из этих имиджей политиков формируется как бы новый тип власти, «вокруг которой общества организуют свои институты, а люди строят свои жизни и решают, как им себя вести»[156].
Информационное общество Кастеллс называет информациональным, чтобы по аналогии с понятием индустриального капитализма терминологически подчеркнуть приоритетную роль информационных факторов в его формировании и развитии, а в дополнение к этому присваивает еще и дефиницию «сетевое общество» для выделения важного значения сетевых коммуникаций. В первом томе «Возникновение сетевого общества» и во втором «Сила идентичности» подробно анализируется атрибутика этого информационально-сетевого общества. Освещаются не только его новаторские достоинства, но и негативные явления, вносящие трудности в жизнь малоимущих слоев населения, лишенных доступа к новым медиа, а также и различные формы сопротивления процессам глобализации сетевого общества. В третьем томе «Конец тысячелетия» внимание к этим явлениям усиливается, и взору читателей представляется широкая панорама коренных исторических изменений в жизни современного мира.
Кастеллс рассказывает о том, как в последней четверти XX века технологическая революция, сосредоточенная вокруг информационных средств связи, трансформировала привычные способы жизни. На планете создается динамичная глобальная экономика, соединяющая людей и активные силы со всех частей света, но в это же время происходит отстранение людей и территорий, отключенных от властных сетей и богатств как неугодных для перспективы доминантных интересов. Виртуальная культура, «конструируемая в постоянно усиливающемся интерактивном аудиовизуальном мире, распространяет повсюду свои ментальные представления и связи, интегрирующие разнообразные культуры в электронном гипертексте. Пространство и время, материальные основы жизни человека также трансформируются, поскольку поточное пространство начинает доминировать над пространством территориальным, а безвременное время одерживает верх над хронометрированным временем часов, характерным для индустриальной эры»[157].
Кастеллс не закрывает глаза на тот факт, что наряду с «сетевой логикой» капитализм демонстрирует также и свою “эксклюзивную логику”, когда миллионы людей и огромные пространства планеты оказываются отключенными от выгод информационализма как в развитых, так и в развивающихся странах из-за неконтролируемой природы глобальных капиталистических сетей. Кроме того, появилось новое действующее лицо – “глобальная преступность”. Это создает «глобальную криминальную экономику, проникающую на финансовые рынки, в торговлю, бизнес и политические системы во всех обществах. Такая извращенная связь является существенной особенностью информационального глобального капитализма»[158].
Оказавшись не в состоянии поставить заслоны на путях развития преступности, информациональный капитализм проявляет беспомощность и в отношении ликвидации таких социальных пороков, как неравенство, бедность, обездоленность, безработица и неграмотность, из-за которых люди лишаются возможности пользоваться благами технологического прогресса. Эту ситуацию Кастеллс называет «черными дырами информационального капитализма»[159], которые, распространяясь по миру, формируют «четвертый мир» несчастных, отрешенных от благ информационального общества людей.
Подвергая критике «чрезвычайное несоответствие между технологическим сверхразвитием и социальным недоразвитием», а также «конфискацию плодов информационной технологии и направление нашей энергии к разрушительным конфронтациям», Кастеллс утверждает, что такого состояния быть не должно, ибо «извечности зла в человеческой натуре нет. И нет ничего такого, чего нельзя изменить путем осознанного целенаправленного социального действия, обеспеченного информацией и легитимностью» [160].
Идеи Кастеллса нашли отзвук в трудах многих коммуникативистов, работающих в разных странах мира и на всемирных саммитах по информационному обществу, состоявшихся в Женеве (2003) и Тунисе (2005).
В «Декларации принципов» женевского саммита создание информационного общества определялось как важнейшая задача нового тысячелетия, решение которой должно принести народам мира существенное улучшение качества их жизни и ее демократизацию в соответствии с положениями «Всеобщей декларации прав человека». Одновременно распространялась и «Декларация гражданского общества», в которой подчеркивалась необходимость положить в основу всех устремлений к информационному обществу прежде всего заботу о людях, их образовании и праве на свободный доступ к информации и технике ее распространения.
Всемирный характер саммитов подчеркнул, что никогда ранее человечество не имело в своем распоряжении такого многообразия эффективных технических средств передачи на огромные расстояния и в кратчайшие сроки мультимедийной информации и ее использования в ситуациях, требующих достоверных знаний о происходящих событиях, чтобы возникающие проблемы можно было бы решать без опасных последствий, связанных с различными катаклизмами. Это чрезвычайно важно для современного человечества, остро нуждающегося в укреплении своего иммунитета по отношению ко всем болезням века, которые могут разрушать как материальные, так и духовные ценности и традиции многих поколений, если медиа будут применяться для воспитания агрессивного поведения и необузданного эгоизма людей, внушая им право на циничную вседозволенность в исполнении своих желаний вместо соблюдения гуманно-демократических принципов общественно-коммуникабельной морали. Защитники таких принципов предлагают «партисипационное использование информационных и коммуникационных технологий» для «коллективного развития предвидений информационных и коммуникационных обществ»[161].
Термин «коммуникационное общество» не нарушает взаимосвязь между понятиями коммуникации и информации, усиливая внимание к социально-гуманитарным функциям информационной техники, предназначенной для улучшения общения, взаимопонимания и сотрудничества людей и стран, стремящихся к информационному обществу. Появление этого термина в «Декларации гражданского общества» не случайно, так как в ней предлагается преодоление асоциальных подходов к проектам информационного общества и более широкое осмысление значения не только самих новых средств информации и коммуникации как продуктов исторического общечеловеческого прогресса, но и их социально-культурного предназначения для людей, которые должны объединяться общими знаниями и пониманием задач улучшения своей жизни на гуманнодемократических началах равноправия и сотрудничества.
Технические средства коммуникации, распространяя такую информацию с человеческими измерениями ее значения для общества, обязаны служить людям, сплачивая их партисипационно в разных структурах гражданского партнерства в границах национальных стран и на общемировом уровне ради создания обществ, где «знания, информационные и коммуникационные ресурсы признаются и защищаются как общее наследие человечества». Эту тенденцию следует поддерживать и в «обществах, которые гарантируют и воспитывают культурное и языковое многообразие и интернациональные диалоги в среде, свободной от дискриминации, насилия и ненависти»[162].
Расширение круга дискуссионных актуальных тем, намеченное в периоды подготовки, проведения и обсуждения материалов всемирных саммитов по информационному обществу, продолжается и в последующие годы, когда в условиях назревавшего глобального финансово-экономического кризиса и связанных с ним различных перемен в общественной жизни мира картины его инфоструктурных преобразований не исчезают из поля зрения коммуникативистов и продуцируют новые акценты в методологическом базисе.
Заметно растет стремление к отказу от устаревающих доктрин XX века. Вместо иллюзий технологического детерминизма и стратегий информационного бизнеса, утверждающих принципы товаризации медийных ресурсов вкупе с их «деидеологизацией» ради интересов сторонников глобализации моделей неолиберализма и консьюмеризма, внимание исследователей направляется на использование более разносторонних подходов к изучению природы современных медийных процессов в различных областях современной общественной жизни мира. Благодаря таким подходам аргументированно выявляются и верифицируются контекстуальные причины и цели дискурсивной атрибутики медийных контентов и способы их фреймирования.
Особое внимание в этой связи уделяется использованию медийных инноваций в информационных войнах, радиусы воздействия которых на аудиторию могут не ограничиваться только горячими точками планеты, вызывая эхо повсюду, где распространяются спутниковые телекоммуникационные связи, Интернет и мобильная телефония. В коммуникативистике эта тенденция активизирует обсуждение проблем регулирования процессов распространения информации с целью борьбы против пропаганды насилия, терроризма, аморализма и иных преступлений против человечества. Поддерживается борьба и против киберпреступности различных видов. Предлагаются проекты превращения медиа в инструменты мирного диалогового решения всевозможных проблем на основе коммуникационного сотрудничества разных стран и населяющих их людей.
Что касается Интернета, на информационно-коммуникационный потенциал которого рассчитаны многие прогнозы информационного общества, то значительная часть современных исследователей не склонна его идеализировать в качестве некой демократической панацеи, убедившись в ходе критических анализов в том, что, хотя «демократический потенциал Интернета велик, но и его существующая эффективность может ограничиваться, поскольку распространение Интернета оказывается зависимым и от национального уровня самой демократии»[163].
Допустимо предположить, что суждения подобного рода некоторым неизменным почитателям Интернета могут показаться предвзятыми. Но для специалистов в области коммуникативистики они имеют полемически полезное значение, помогая понять и доказать, почему сами по себе инновации в информационной технике без соблюдения демократических принципов их внедрения в жизнь людей не гарантируют полноценного осуществления гуманных идеалов информационно-коммуникационных обществ. Ответ на этот вопрос заставляет глубже задуматься о том, что ликвидация цифровых расколов и демократических «не только сохранит, но и принесет новые плоды демократии на национальном и, возможно, на глобальном уровне предсказуемого будущего»[164].
Такие идеи высказываются на страницах журналов коммукативистов, издающихся в странах развитых и развивающихся, расположенных в разных частях света. В 2010 году южно-африканский журнал «Коммуникатио» посвятил специальный выпуск «контекстам, профессиональной практике, институтам и идеологиям журналистики в Южной Африке и Бразилии», полагая, что эти страны имеют сходные черты развивающейся демократии, позволяющие на них сосредоточить сравнительные исследования политических, экономических и социальных условий, в которых совершается и изучается практическая деятельность журналиста. Отмечается, что эти условия отличаются от тех, которые характерны для «медийно насыщенных стран Северной Америки и Западной Европы», все еще «доминирующих в продуцировании знаний в области журналистики и изучении медиа». Хотя есть уже и «растущее осознание того, что англо-американские теоретико-познавательные рамки слишком ограничивают и обедняют возможности для обеспечения богатством понимания роли медиа в глобализирующемся мире»[165]. Это говорится на страницах журнального выпуска, инициаторы которого считают, что предлагаемые сравнительные исследования «могут потенциально внести вклад в интернационализацию знаний о журналистике»[166]. Если под этим вкладом понимаются сравнительно-системные анализы многообразия медийных процессов и их растущего влияния на судьбы не только отдельных стран и регионов, но и всего человечества, то, конечно, их надо рекомендовать современным коммуникативистам и особенно тем, кто изучает эволюцию прогнозов информационного общества и вносит свою лепту в их обсуждение, модернизацию и рассмотрение в программах медиаобразования.
Глава IX
Социально-партисипационная ответственность СМИ и журналистики
Мультимедиатизация социума – процесс объективно-исторический, развивающийся сегодня быстрыми темпами во всех странах, которые, стремясь не отставать друг от друга в совершенствовании рычагов прогресса, интенсивно используют различные средства информации и коммуникации – от печати, радио и телевидения до Интернета и мобильной телефонии. Благодаря этим средствам эффективнее могут осуществляться модернизация промышленности и сельского хозяйства, градостроительства и транспортных магистралей, улучшение качества жизни людей, их образования, медицинского и культурного обслуживания.
Задачи и трудности, результаты и перспективы этой деятельности изучаются в разных областях обществоведения. Коммуникативистика сосредоточивает внимание на исконной исторической сопряженности общественной природы человека с гуманитарно-коммуникабельно-информационной миссией медиа. В трудах коммуникативистов отмечается, что еще древние народы, не знавшие ни письменности, ни печати, испытывали жизненную потребность в общении для совместного освоения природы, стремились к изобретению нужных им средств связи, и это постепенно приводило их к переходу от устно-ритуальных и иных языков общения к более совершенным в техническом отношении способам коммуникации, каждый из которых вносил свой посильный вклад в развитие тех или иных форм общественной жизни.
В целом этот исторический процесс носил характер ремедиации: новые средства информации не ликвидировали, а модернизировали и дополняли арсенал уже существовавших. Изобретение телефона, телеграфа, радио и телевидения не уничтожило потребности в издании книг и газет, хотя существенно трансформировало их возможности и функции. Интернет не истребил интереса к радио и телевидению в жизни миллионов и миллиардов современных людей. Хотя, конечно, на пути ремедиации всегда есть немало различных преград – от косности традиций и замкнутости этно-географических границ и обычаев до слабого развития научно-технических знаний и международных обменов в разные периоды истории. Вместе с тем благодаря информационным средствам коммуникации эти преграды преодолевались, помогая, в конечном счете, людям воспринимать медийные ресурсы планеты как общее достояние человечества, сравнимое с природными богатствами лесов, морей и рек, недр земли и воздушного пространства, которые требуют заботы и социальной ответственности в отношении своего общественно-гуманитарного предназначения.
Однако это предназначение медиа вступает-таки в противоречие с коммерческими интересами их владельцев, стремящихся превращать информационно-коммуникационную деятельность в прибыльный бизнес для себя, а не в общественное достояние. Такое противоречие прослеживается в истории всех традиционных СМИ, оказывавшихся в подчинении у монополий еще в прошлом веке. Но в XXI столетии развитие электронных средств связи поначалу породило у некоторых коммуникативистов надежду на возможность избавить эти средства от коммерческих прессингов благодаря их особой технической конструкции. В оптимистических прогнозах грядущего информационного общества всемерно акцентировались приоритетные особенности новых электронных медиа: высокие скорости передачи разнообразной информации на любые расстояния в интерактивном режиме с возможностями гипертекстовой композиции и мультимедийного преобразования данных, портативность аппаратуры и комфортность условий ее использования. Меняются даже векторы распространения информации таким образом, что вертикальная однолинейность (сверху вниз, от одного источника к массовой аудитории) может вытесняться или дополняться множеством горизонтальных связей в различных направлениях. В совокупности все эти качества новых электронных медиа способствуют процессам глобализации и глокализации медиасферы в целом и ее общественного потенциала в частности, так как открывают неизвестные ранее мультимедийные и диалогические формы обмена информацией с возможностями преодоления различных преград на этом пути.
Среди достоинств новых электронных медиа аналитики особо выделяют интерактивные формы общений в онлайновом режиме, позволяющие обсуждать различные спорные проблемы и решать их мирным путем, создавая благоприятную обстановку для разработки моделей будущих информационно-коммуникационных обществ знаний, в которых не социально-политические расколы и распри, а просвещенное сотрудничество и социальная ответственность должны обеспечивать достижение целей материального и духовного прогресса человечества с помощью открытого и справедливого доступа к общественному потенциалу как традиционных, так и новых медиа.
Социальная ответственность СМИ обсуждается в коммуникативистике постоянно. Сегодня, когда активизация партисипационной демократии (participatory democracy – от participation – соучастие) с прямым участием граждан в принятии решений на правовом поле различных структур власти и контроля может осуществляться не только в традиционных формах демонстраций, выборных кампаний и других политических мероприятий, но и виртуальным путем при использовании новейших технических средств связи и информации, включающихся в кроссмедиатизацию мира, в коммуникативистике также усиливается внимание к проблемам партисипационно-демократических качеств социальной ответственности СМИ и журналистики.
На всемирном саммите по информационному обществу, состоявшемся в Женеве в 2003 году, утверждалось, что поскольку общение является одной из базовых человеческих потребностей и фундаментом социальных организаций, необходимо четкое понимание важности солидарности и партнерства для создания открытого информационного общества с новыми формами сотрудничества между всеми заинтересованными сторонами – органами государственного управления, частным сектором, гражданским обществом и международными организациями. Для преодоления разрывов между странами, имеющими и не имеющими всеобщего доступа к новейшим коммуникационным технологиям, «Декларация принципов» саммита призывала к «цифровой солидарности» с соблюдением ответственности за использование информации и обращение с ней в соответствии с общепринятыми этическими и гуманитарными стандартами. Партисипационность такой ответственности подразумевалась во всех основных тезисах, прогнозировавших вступление человечества в новую эру возможностей коммуникаций, необходимых для создания информационного общества на базе взаимопонимания между народами и странами, совместного использования ими информативных знаний и глобального сотрудничества на пути к благополучному и справедливому миру.
Коммуникативистика откликнулась на эту программу растущими стремлениями расширять и углублять свои подходы к исследованию наиболее дискуссионных перемен, совершающихся в медийных ландшафтах мира и в науке, изучающей их. Намечается решительный пересмотр устаревающих теоретических концепций, поддерживающих «доктрину объективности» новостей и их товаризованной деидеологизации. Признается атрибутивная связь медийной деятельности с ее идеологическими функциями. Внимание исследователей направляется на изучение способов и целей фреймизации информации и ее дискурсивных форм и функций в различных социально-политических контекстах. Теоретический базис коммуникативистики перестраивается, продвигаясь в сторону сравнительных междисциплинарных анализов процессов, происходящих в разных странах и регионах мира, с целью выявления особенностей как экономических и технологических основ современной медийной деятельности, так и ее социально-культурной атрибутики с акцентами на человеческих измерениях и их информационно-коммуникационного потенциала.

