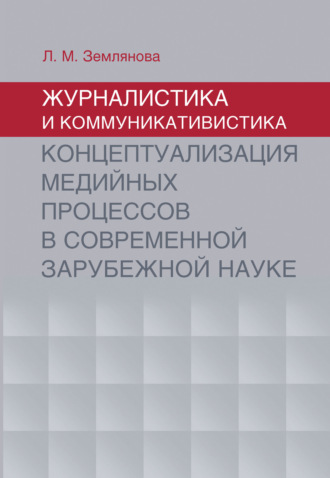 полная версия
полная версияЖурналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в современной зарубежной науке
Жизнь доказывает прозорливость этой научной позиции коммуникативистов, предлагавшейся вниманию общественности мира еще накануне глобального финансово-экономического кризиса, разразившегося в 2008 году. В это время на страницах международного вестника коммуникативистов («Интернэшнл коммуникейшн газетт») появляется немало статей, в которых усиливается критика неолиберализма как идеологии, не признающей объективной необходимости адекватных систем регулирования важных процессов в сфере экономики и финансов с использованием совершенных коммуникационных технологий, но без их абсолютизации, чреватой недооценкой гуманитарных факторов прогресса.
В этой же связи ведется и критика тех теорий информационного общества, в которых ведущей силой объявляется только информационная техника без учета ее человеческих измерений и функций. Но никакая технология сама по себе не приносит социального равенства. И информационные технологии не будут исключением, пока их специально не сконструируют и не станут использовать для того, чтобы это сделать. Почему же тогда акцентируется именно технологический аспект в создании информационных обществ? Ответ, наверное, заключается в стремлении создавать рынки для продажи информационных технологий, что сводит на нет возможность построения справедливого информационного общества. Поэтому стремиться надо к инклюзивному информационному обществу, которое воспитывает равенство и соучастие с функциями, соответствующими потребностям человеческого благосостояния, а не логике товаризации[135].
На страницах этого же журнала публикуются статьи с критическими анализами различных проявлений модифицированного «культурного колониализма» – от гегемонизации английского языка до «брендизации» стран и городов, превращающих их в сферы обогащения туристических корпораций при помощи размещения в медиа специальных рекламных сообщений. Отмечается, что эта тенденция прослеживается в разных государствах, охваченных влиянием неолиберального глобального порядка и сопровождающей его онлайновой брендизацией национальных государств, которая используется в целях «изготовления национальных идентичностей только как коммерческих брендов и, более того, – усвоения неолиберальных моделей экономического роста»[136].
Согласно такой стратегии национальные государства должны заботиться не о сохранении своих культурных традиций и их своеобразия, не о благополучии граждан, а о быстрейшем вхождении в глобальный торговый миропорядок, где господствует дух коммерции и потребительства, находящий выражение в брендизации городов, стран и регионов, создающий иллюзии улучшения их положения в мире. На самом деле происходит усиление зависимости этих стран от императивных рекомендаций ведущих игроков на глобальном рынке, которые нередко коррелируются и с атрибутами постфордизма, чреватыми кризисами в экономике и ухудшением социальных условий жизни и труда, поскольку они «инкорпорируются в отношения с так называемым развитым миром, основанным на эксплуатации»[137].
В трудах Герберта Шиллера и других коммуникативистов тенденции подобного рода подвергались критике еще в 1970-1980-е годы. В начале XXI века они становятся более сложными из-за эскалации электронной техники с управляемой, варьирующейся природой коммуникационных средств, позволяющей их использовать в разных информационных операциях[138], включая не только информационные войны в политике, но и кризисные баталии в сферах экономики и финансов. Анализируя эти явления, коммуникативистика помогает выявлять просчеты стратегии, основанной на технологическом экстремизме и постфордизме, игнорирующей реальные социально-культурнее факторы прогресса на глобальном и локальном уровнях его распространения на геополитической карте мира. Благодаря науке, изучающей гуманитарные аспекты развития СМИ, растет убеждение в том, что неотъемлемым условием мирного и справедливого решения назревших проблем человечества являются не безграничная эгоистическая свобода бизнесменов, сопряженная с фетишизацией компьютерной техники и товаризованной потребительской деятельностью, а понимание сути настоящей информативной культуры знаний и творчества на благо людей и преодоление разрывов между правами принятия решений и социальной ответственностью за возможные последствия этих решений в современном быстро меняющемся мире.
Ведь не случайно исследования роли информационных средств связи для сохранения окружающей человека среды ведутся сегодня в различных странах – развитых и развивающихся, уже имеющих опыт и возможности эффективной борьбы против ухудшения природной и культурной среды и пытающихся их обрести для предотвращения экологических угроз. Внося свой особый эвристический вклад в эти исследования, коммуникативистика опирается на методологию опять-таки сравнительно-системных междисциплинарных анализов изучаемых явлений в различных областях жизни – от экономики и политики, науки и культуры до образования и искусства, сопряженных в той или иной степени и формах с развитием медийных процессов, постоянно модернизирующихся в глобальных и локальных направлениях. Обретая многоуровневый и поливариативный характер, эти процессы требуют от коммуникативистов партнерства для внедрения в науку интеграции теоретических концепций и методов, без которых невозможно адекватное объяснение причин неотложности рассмотрения глобализирующихся проблем защиты человечества и окружающей его среды от хищнического истребления природных и культурных ресурсов.
В монографии Мануэла Кастеллса «Информационный век: экономика, общество и культура» эти проблемы, как и связанные с ними общественные движения, называются инвайеренменталистскими (от environment – окружающая среда). Инвайеренментализм ученый считает «экологией на практике», а к экологии относит «комплекс верований, теорий и проектов, рассматривающих человечество как компонент более широкой экосистемы»[139]. Уточнение этих понятий не противопоставляет их друг другу, но помогает направлять участников различных инвайеренменталистских движений к главной цели – сохранению человеческого рода и его цивилизации для будущих поколений путем эффективного воспитания современных людей как компонентов природы и ее экосистемной целостности. Эта идея не означает отрыв инвайеренментализма от социальных проблем. «Инвайеренментализм является на самом деле главным социальным движением нашего времени, поскольку охватывает многообразие социальных причин под всеобъемлющим знаменем инвайренменталистской справедливости», – пишет Кастеллс и, поясняя свою мысль, добавляет, что такая концепция, утверждающая ценности жизни «в противовес интересам богатства, власти и технологии, постепенно захватывает умы и политику»[140].
В футурологическом ракурсе аналогичные идеи высказывает Элвин Тоффлер, когда в своей книге «Третья волна» упрекает «вторую волну» цивилизации (фабричную) в подчинении рыночным интересам коммерциализации разных форм жизни, ставшей экологически опасной из-за «войны с природой»[141]. Панацейную функцию для выхода из этой ситуации он связывает с внедрением компьютерной техники в грядущем обществе «просьюмеров», объединяющих труд производителей и интересы потребителей в «электронных коттеджах».
Но мир по-прежнему не освободился от экологических катастроф и от необходимости экологических движений в защиту природной и культурной среды. Ни полеты в космос, ни онлайновые сети, окутавшие мир, ни компьютеризация заводов, школ и больниц, как и институтов власти, не спасли планету от внезапных страшных землетрясений, цунами, наводнений, извержений вулканов и эпидемий, радиационного загрязнения воздуха и воды, вырубки лесов и истребления животного мира. Миллионы людей в разных частях света страдают от голода и нищеты, неграмотности и безработицы. Какую помощь может оказать в борьбе с этими явлениями высокоразвитая информационно-коммуникационная техника и работающие на ее основе журналисты?
По мнению многих коммуникативистов, журналисты должны направлять свою аудиторию в русло борьбы с хищническим отношением к природным и культурным богатствам мира и к включению в эту борьбу людей разных возрастов и профессий из разных стран. Традиционные и новые медиа должны убеждать их в том, что без своевременного решения экологических проблем человечество не освободится от опасности самоуничтожения. Они обязаны использовать все возможности для просвещения людей и воспитания их в духе партисипационной социальной ответственности за состояние окружающей среды в противовес всем формам беспредельного эгоистического консьюмеризма, оправдывающего неограниченное потребление и истребление природных богатств, как и извращение культурных ценностей и традиций.
Еще накануне XXI века в декларации участников международного Движения в защиту культурной среды критике подвергались «глобальные рыночные доктрины, предписываемые работникам медиа и навязываемые детям мира», доктрины, которые «колонизируют, монополизируют и гомогенизируют культуры повсюду», а «технократические фантазии маскируют социальные реальности, еще более расширяя разрыв между информационно богатыми и информационно бедными». В качестве «освобождающей альтернативы» предлагался курс, направленный на создание и развитие «свободной, справедливой, многообразной и ответственной культурной среды для нас и наших детей»[142].
Знакомство с новейшими публикациями работ коммуникативистов убеждает в том, что медиаэкологическая тема не только не исключается из их поля зрения, но становится более разнообразной, социально заостренной и конкретизированной применительно к тем или иным контекстуальным особенностям рассмотрения проблем инвайеренментализма и включения их в программы современного медиаобразования. Такая тенденция объединяет научные ориентации коммуникативистов разных стран, стремящихся сегодня изучать не только глобальные, но и глокальные аспекты медиаэкологических вопросов, признавая их значение для безопасности и благоустройства жизни людей во всех регионах мира, имеющих свои особенности и общие для всего мирового сообщества информационно-коммуникационные задачи защиты человечества и человеческой цивилизации.
Включение в комплекс этих задач демократических справедливых требований к участию медиа в предотвращении экологических угроз в природном окружении и культурной среде помогает коммуникативистам глубже осознавать и эффективнее выполнять гуманитарную миссию в международном сотрудничестве, которое необходимо интенсифицировать ради дальнейшего мирного социально-культурного прогресса во всех странах нашего многополярного мира. Это отвечает вызовам времени и продвигает коммуникативистику на передовые рубежи современного обществоведения, обязанного защищать и обогащать медийную энергетику человечества на благо его жизнеспособной деятельности и согласованной целостности, а не вопреки им.
Глава VII
Изучение атрибутивности дискурсов и фреймингов в современных средствах массовой информации
Слово «дискурс» (от лат. discursus – довод, рассуждение) в общественно-научной лексике может употребляться для определения разных форм и целей информационной деятельности – от устных бесед или лекций до письменных текстов, содержание которых претендует на обоснованность и достоверность излагаемых фактов и мыслей. Дискурсивными принято называть знания, полученные в результате их осмысления с помощью логически убеждающих рассуждений и умозаключений. В коммуникативистике понятие дискурсивности органически связывается с коммуникабельностью тех языковых ресурсов, которые исконно являются уникальными орудиями общения людей, выражения их мыслей и чувств, интересов и опыта познания окружающего мира, передачи его другим поколениям вместе с опытом взаимопонимания и информационного сотрудничества в разных социально-культурных ситуациях.
Для анализа вариативных качеств дискурсов в коммуникативистике могут привлекаться различные виды информативных актов – от газетно-журнально-книжных изданий до театральносценических, кинематографических и телевизионных представлений. Значительное внимание уделяется словесным средствам дискурсивности в информационных коммуникациях. Это соответствует стремлениям коммуникативистов к выявлению и сохранению вербального потенциала информационных средств связи, которые создавались и совершенствовались на протяжении всей истории цивилизации благодаря мыслительно-языковой энергии человека. И поскольку даже самые чудесные виды новейшей коммуникационной техники являются тоже продуктами этой энергии, многие представители коммуникативистики выступают против технологического детерминизма, чреватого недооценкой словесной грамотности ради безграничной абсолютизации грамотности компьютерной.
Экстремизм подобного рода опасен в условиях нынешних глубоких исторических перемен в различных сферах общественной жизни мира, обусловливающих прогнозы перехода к информационно-коммуникативным обществам знаний, в инфраструктуре которых важное значение должны иметь доступы как к новым технологиям, так и к богатствам знаний и их вербально-коммуникативным ресурсам, связанным с дискурсивными средствами их осмысления, сопряженными с поисками правильных путей дальнейшего развития цивилизации в условиях мирного сотрудничества разных народов и стран без военных конфликтов и экологических катастроф. Не случайно поэтому в работах современных коммуникативистов, как и в материалах Всемирных саммитов по информационному обществу, бросается в глаза неослабевающий интерес к созидательным возможностям дискурсивно-диалогических форм изложения информации и ее изучения в разных коммуникационных процессах и контекстах.
Изучая эти процессы, коммуникативисты относятся и к собственным дискурсам как к важным научным инструментам обоснованного анализа и обсуждения его итогов на страницах печати или на симпозиумах и саммитах в открытом дискуссионном режиме «диалогического пространства» со «множеством голосов и языков» и пониманием «ожиданий людей и традиций». Дискурсивная форма рассмотрения спорных концепций, расширяя их «семантическое пространство» и «мир слов» для диспутантов, помогает правильнее выделять истинные факты и мысли, их научную корректность, не закрывая, однако, путь к «еще более полемическим темам»[143].
Но дискурсы привлекают внимание коммуникативистов не только как инструменты их исследований, дискуссий и заключений, но и как спорные элементы изучаемой ими медиалогики, с помощью которой продуцируются разного рода медиаимиджи, медиамифы, медиасобытия, проводится отбор и идейная обработка информационных данных в так называемых фреймах и фреймингах.
Английское слово frame имеет широкий диапазон значений как в общеупотребительной лексике (каркас, остов, корпус, конструкция, система), так и в специализированном языке программистов (блок данных, группа). В словаре по телевидению frame – кадр, цикл временного объединения сигналов, a framing – кадрирование, вписывание объекта передачи в кадр, синхронизация кадровой развертки. Газетчики называют фреймом заметку, заключенную в рамку. Не удивительно, что такая семантическая емкость в условиях интеграционных процессов в современном мультимедиатизирующемся мире информационных связей способствует внедрению слов frame и framing в коммуникативистику, где они используются для обозначения процессов формирования и распространения новостей (на основе новейших технологий) в общенациональных и транснациональных масштабах в компактных формах кадров, блоков и циклов различных данных, количество и содержание которых обусловлены границами и целями текстов и дискурсов.
Но понятия фрейминга и фрейма в коммуникативистике ассоциируются не только с новой электронной техникой мультимедиатизации информации, но и с процессами ее подчинения медиалогике, сопряженной с идейными позициями журналистов или владельцев СМИ, меняющимися в разных социально-исторических контекстах и в зависимости от разных целей дискурсивного воздействия на целевую аудиторию. Причастность к медиалогике функционально сближает понятия фрейма и дискурса, но они не должны отождествляться.
Правильнее воспринимать их в качестве дополняющих друг друга и взаимосвязанных обозначений тех или иных форм, способов, функций, целей и результатов сложносоставных процессов отбора, компоновки, фильтрации и изложения информации, программно предназначенной для той или иной аудитории. Поэтому в исследованиях коммуникативистов термины «дискурс», «фрейм» и «фрейминг» часто находятся в соседстве друг с другом, помогая разносторонне раскрывать особенности репрезентации новостей и влияния СМИ на различные области общественно-культурной жизни.
И это закономерно, если под фреймом понимается слаженный набор силлогических фигур, которые возникают в дискурсе и оказывают влияние на обработку информации. В такой дефиниции интегрируются структурные и идейно-функциональные возможности использования дискурсов и фреймов в качестве взаимосвязанных инструментов медиалогической подготовки информационных данных для сообщения их целевой аудитории. Выражена в этом определении и их практическая роль в распространении новостей таким образом, что медиа дают представление об ограниченной выбором части реальности, которая может восприниматься как подлинная реальность.
В коммуникативистике это многократно доказывается результатами контент-анализов новостных фреймингов и дискурсов, характерных для СМИ, которые функционируют в разных частях света и, подчиняясь своей медиалогике, освещают одни и те же события по-разному, даже если сведения о них черпаются из крупных агентств новостей. Ибо характер медиалогики зависит от многих субъективных и объективных причин и целей отбора информации, ее фильтрации и публикации стараниями журналистов, сотрудников СМИ и других влиятельных участников медийных процессов, находящихся в постоянной зависимости от меняющихся глобальных и локально-региональных контекстов. Свое воздействие на характер фреймингов оказывают и стремления к защите национальных интересов государств. «Исследования показывают, что в каверидже международных новостей журналисты стремятся “локализовать” новостные сюжеты, рассчитывая целенаправленно на определенную национальную аудиторию»[144].
Вследствие всех этих факторов влияния на фрейминги возникает неодинаковое отношение к одним и тем же событиям и к использованию для их освещения в СМИ разных дискурсов и фреймов, зависимых либо от личных убеждений журналистов, либо от тех или иных СМИ. Поэтому, в конечном счете, согласно известной в кругах современных коммуникативистов дефиниции этого понятия, фреймирование по сути своей означает «выбор некоторых аспектов воспринимаемой реальности и придание им большей заметности в коммуникационном тексте таким образом, чтобы это способствовало специфическому определению проблемы, казуальной интерпретации, моральной оценке и/или выработке рекомендации»[145].
По мнению аналитиков, использование фреймов формирует в аудитории понимание освещаемых в СМИ событий, придает им то или иное значение и возбуждает или снижает интерес. «Иначе говоря, новостной фрейминг являет собой способность медиа менять взгляды человека на реальность, вызывая надолго в памяти комплекс ментальных концепций, используемых в дальнейших познавательных целях». Это имеет немаловажное значение в периоды предвыборных дискуссий, когда «процесс фрейминга может “культивировать” особую версию политических реалий и устанавливать оценочные критерии, используемые читателями для суждения о важности политической повестки дня». В этом отношении он «играет главную роль в проявлении политической власти, а фрейм в новостном тексте становится отпечатком власти»[146].
Но как же коррелируется признание важной идеологической роли новостных фреймингов в современных СМИ с «доктриной объективности» новостей, которая в течение длительного времени поддерживала рыночную модель и претендовала на лидерство в США и в других странах на том основании, что именно она должна быть идейным стержнем глобализации монополизированных потоков товаризованных новостей, очищенных от мнений и оценок? Исследования современных процессов, происходящих в медиапространстве различных стран мира, показывают, что ситуация меняется и в коммуникативистике усиливается тенденция критического отношения к этой доктрине. Ее объявляют устаревшей, а абсолютную объективность новостей недостижимой из-за сопряженности медиа с фреймингами и дискурсами медиалогики, влияющей на изложение информационных сообщений весьма существенно. Сторонники такой точки зрения даже полагают, что вместо мнимой объективности лучше признать «субъективность как некий критерий честности журналиста»[147], открыто выражающего свои взгляды и понимающего причины невозможности полной объективности новостной продукции, подчиняющейся медиафреймингам, которые в том или ином отношении зависят от исходных идеологических силлогизмов.
Изучая различные типы дискурсов и фреймов, фокусирующих внимание аудитории на конфликтных ситуациях, общечеловеческих интересах, вопросах экономики, культуры и морали, коммуникативисты приходят к выводу, что с помощью этих средств медиа усиливают свое влияние на мысли и действия публики посредством фреймирования новостей в определенном направлении.
Количество исследований на эту тему в последние годы растет вместе с многообразием медиаландшафтов в меняющемся мире и стремлениями коммуникативистов подвергнуть системно-сравнительным анализам контекстуальные особенности атрибутивных взаимосвязей между дискурсами и фреймами и их функциями в медийных процессах. Результаты исследований показывают, что масс-медиа можно охарактеризовать как «социальную силу, используемую с пользой или во вред обществу, в котором они действуют. Когда они применяются для поддержания справедливости, основ морали, единства и гармонии в обществе, они могут действовать как пособники мира во времена кризиса. Однако они также могут использоваться и как подстрекатели конфликтов и для других деструктивных целей»[148].
И поскольку важнейшим концептуальным способом использования медиа в идейных конфронтациях являются дискурсы и фреймы, условия и цели их создания необходимо знать не только журналистам, но и обществоведам разных профилей, включая, конечно, и специалистов в области медиаобразования. Правы коммуникативисты, которые призывают изучать новостные фрейминги и медиадискурсы в их атрибутивной взаимосвязанности, сочетая сравнительные контент-анализы с опросами журналистов, редакторов, издателей и других участников медийной деятельности. Это не только обеспечивает возможности глубже и разностороннее осмыслять значение такой деятельности для социально-культурного прогресса и преодоления препятствий на его пути, в каких бы ситуациях и странах они ни возникали, но и способствует модернизации теоретического базиса коммуникативистики и ее плодотворному сотрудничеству с другими современными общественно-гуманитарными науками.
Глава VIII
Эволюция прогнозов информационного общества
Футурологические прогнозы грядущего информационного общества стали предметом обсуждений в зарубежной коммуникативистике еще в прошлом столетии, когда на волне начавшегося бурного развития электронных средств связи появилась тенденция рассматривать их как технологическую основу постиндустриального капитализма, обладающего большими научно-информационными ресурсами для модернизации рычагов прогресса, способных обезопасить мир от кризисных явлений, свойственных прежним стадиям капитализма.
Экскурс в историю этих прогнозов позволяет выделить несколько этапов их эволюции. Если на первом этапе (1970-е годы) идеи перехода к информационному обществу сближались с концепциями постиндустриального капитализма, изложенными в известных трудах Даниела Белла «Приход постиндустриального общества. Опыт социального прогноза» (1974) и «Культурные противоречия капитализма» (1976), то на втором этапе (1980-е годы) такие идеи уже более определенно становятся аргументами в проектах именно информационного общества, опирающегося на ключевую роль компьютерной техники. Примером воплощения этой разновидности научного прогнозирования стала теория «третьей волны» Элвина Тоффлера. Третий этап начинается на рубеже XX–XXI веков и характеризуется уже нарастанием критических оценок ранее высказывавшихся прогнозов.
Белл утверждал, что благодаря преобразованию машинной технологии в интеллектуализированную, управляемую новыми средствами связи, качественные преобразования происходят и в других сферах жизни. В экономике центр тяжести переносится с производства на сферу услуг и исследовательские институты, ведущую роль обретают информационные средства коммуникации, способствующие и тому, что большая часть общества начинает принимать участие в его управлении и пересмотре традиционных представлений и структур. Но Белла беспокоили изменения в области культуры. С тревогой писал он о том, что в условиях, когда общество стремится развивать знания и научные силы для их эффективного использования, культура становится гедонистической, вседозволяющей, экспрессивной, не уважающей авторитеты. По его словам, «отсутствие прочной системы моральных убеждений является культурным противоречием общества»[149] и серьезно осложняет проблему его выживания. Выход из такого противоречия Белл видел в признании исторической потребности объединения культуры с религией, которая «может восстановить преемственность поколений, возвращая нас к экзистенциальным категориям, являющимся основами для скромности и заботы о других» [150].

