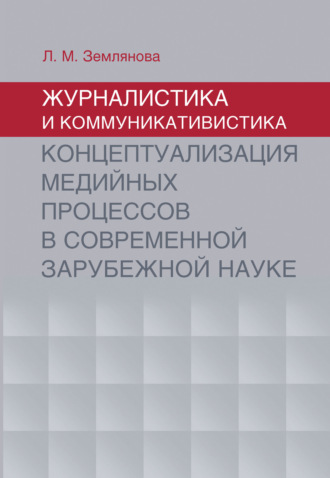 полная версия
полная версияЖурналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в современной зарубежной науке
По мнению Шлезингера, осуществлять объединение стран с разнообразными государственными системами и множеством этнокультурных и религиозных традиций трудно, если опираться только на финансово-экономические и политические рычаги партнерства, игнорируя конструктивную роль культурно-коммуникативных факторов, формирующих публичную сферу для объединяющихся стран. В докладе европейской комиссии «Телевидение без границ» еще в 1984 году утверждалось, что информация является решающим фактором европейского объединения. Но практика жизни показала, что тенденции, с одной стороны, к национально-культурной самобытности, а с другой – к экономическому индивидуализму, с позиций которого «аудитория рассматривается в качестве потребителей, а программы прежде всего как товары»[108], стали причинами противоречивости ситуации, складывающейся на европейском телевещательном ландшафте. Произошло это, как поясняет Шлезингер, не спонтанно, а вследствие настойчивых попыток осуществлять интеграцию европейских национальных государств в форме наднационального Европейского Союза с помощью «интеграционалистской политической экономии» без должного внимания к специфике и важности национально-культурной обусловленности существующих общностей и связанных с ними телевизионных систем.
Шлезингер затрагивает и вопрос о противостоянии экспансии американской видеопродукции на европейском медиарынке. Он полагает, что перенесение на сверхнациональный уровень американизации может представляться угрозой европейской культуре и ассоциироваться с защитой промышленно-коммерческих интересов создания европейского рынка при недооценке ряда объективных факторов демографического и этнолингвистического порядка, влияющих на рецептивные возможности и потребности европейцев. Ученый признает, что американская киноиндустрия преуспевает в производстве имиджей массовой культуры, которые «легко преодолевают европейские национальные барьеры»[109]. Но создаваемый ею «общий язык» визуальности не должен рассматриваться в качестве универсальной глобальной модели в проектах формирования общеевропейского коммуникационного пространства хотя бы потому, что несет на себе печать США, где этнолингвистические факторы идентифицируются в иных социально-исторических контекстах и по иным идейным принципам, чем в странах Старого Света, сохраняющих традиции суверенности национальных государств, культур и языков.
Нельзя не отметить также, что в статье Шлезингера утверждается важная роль лингвоэтнической специфики информации, предназначенной для публичной сферы в медиапространстве государств, стремящихся к сохранению своего национального суверенитета и в условиях пребывания в Европейском Союзе. Если эта специфика игнорируется в потоках глобализированной массовой зрелищной инфокультуры, ориентированной на слуховизуальную образную форму чувственного восприятия сообщений (например, трансляции спортивных игр или концертов рок-музыки) и на рыночные модели коммуникационной деятельности, то публичная сфера медиапространства нуждается в словесных средствах для выражения не только общеевропейских, но и локально-национальных интересов тех или иных стран, связанных с инновациями в СМИ.
Часть этих инноваций вызвана усилением телевизионного воздействия на национальную и транснациональную аудитории по сравнению с прессой, несмотря на ее концентрацию в крупных монопольных организациях с трансграничными радиусами своей деятельности на мировых медиарынках, где «процесс глобализации вытесняет некоторые силы с национального уровня и создает новые места для профессионалов»[110]. Вместе с тем и возрастание телевизионного потенциала встречается с трудностями языкового порядка даже в трансляции евроновостей на нескольких языках, так как и это не полностью соответствует лингвистическому многообразию европейской аудитории. И поскольку визуальный ряд без понятного словесного комментария удовлетворяет не всех жителей Европейского Союза, вещание новостей на разных языках может являться предпочитаемой формой. И это надо учитывать, думая о расширении публичной сферы и зная о том, что «открытым остается вопрос, каким образом новости, транслируемые по каналам европейского общественного вещания, будут состязаться с национальными общественно-вещательными новостными программами»[111].
Противоречия европейского коммуникационного пространства напоминают о Движении за новый мировой информационный и коммуникационный порядок, участники которого, защищая идеи «международной публичной сферы», призывали к борьбе против «медиаимпериализма» в отношении к «аутентичности национальной культуры»[112]. Эта борьба резонируется и в дискуссиях о европейском культурно-коммуникационном поле, когда затрагиваются вопросы об «интеллектуальном империализме» сторонников тотальной коммерциализации СМИ, выгодной для экспортеров американской видеопродукции. Защищая интересы своего бизнеса, они упрекают оппонентов в запретах на свободную торговлю аудиовизуальными товарами. «Европейская же позиция заключается в том, что фильмы и телевизионные программы являются культурными артефактами и их нельзя отождествлять с другими продаваемыми товарами. Из этого следует, что принцип культурного исключения должен применяться и к аудиовизуальному сектору, который официально представляется как центр европейской культурной и демократической жизни»[113].
В ходе несмолкаемых споров о глобализации и локализации мультимедийных процессов в коммуникативистике получил распространение термин, означающий фокусирование внимания на связи локального с глобальным – «глокализация». Новым в этом термине является воплощенное в нем понимание глобализации как процесса межкультурных контактов, которые могут совершаться не только на международном уровне среди национальных государств, но и внутри них на разных социальных основах. Это обязывает исследователей глубже вникать в значение «локального контекста вместо попыток обращения прямо к глобальному контексту»[114] и не игнорировать «деятельность низовых социальных движений, затрагивающих культурные и этнические проблемы. Потому что именно эта деятельность и пытается служить противовесом глобальным культурным потокам и выражать свое отношение к локальной культурной идентичности»[115].
Акцент на изучении «глобализации в локальном», воплощенный в термине «глокализация», означает внимание к изучению культурно-коммуникационных процессов конкретно, как бы изнутри, выявляя пути и формы их собственной «гибридизации» и «креолизации», не ограничиваясь констатацией только следов воздействия на них «стратегий глобального бизнеса и попыток глобального управления»[116]. Такой подход должен способствовать изучению разных причин, ведущих к распространению мультикультурализма и в условиях глобализации медиапространства. Изучение требуется с позиций мультидисциплинарных подходов усилиями специалистов разных профилей и разных стран в целях рассмотрения этого сложного явления во всех деталях и с правильными оценками не только коммуникационных, но и иных связанных с ними процессов, вносящих перемены в социально-историческую картину мира.
Проблемы мультикультурализма и их причастности к процессам глокализации медийных систем оказываются особенно актуальными в странах, где в границах одного государства живут представители разных национальностей и часть из них может оказываться под влиянием этносепаратизма, пропагандируемого с помощью использования информационной техники. Изучение этих сложных явлений в коммуникативистике подводит аналитиков к выводу о необходимости модернизации взглядов на сущность культурно-коммуникационной деятельности с непременным учетом всевозможных ее связей с различными областями общественной жизни стран в условиях развивающихся процессов глобализации и глокализации их медийных систем. Внимание должно сосредоточиваться на необходимости демократизации информационных ресурсов, имеющих ключевое значение для развития гражданского общества как гаранта справедливого решения задач социально-культурного прогресса, возникающих в современном многополярном мире в условиях его интенсивной мультимедиатизации.
Из опыта мировой истории известно, что страны, избирающие демократический курс, стремятся осуществлять его путем признания конституционных прав всех граждан на свободный выбор не только образа жизни, профессионально-трудовой и общественно-политической деятельности, но также и на доступ к информационно-коммуникационным средствам. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной ассамблеей ООН в 1948 году, поддерживая это стремление, утверждает, что каждый человек имеет право на свободу убеждений и их выражение, а это право означает и свободу выбирать и распространять информацию разными средствами независимо от факторов власти и границ. Сегодня, когда все регионы мира охватываются паутиной сетевых связей, эти положения Всеобщей декларации прав человека обязывают коммуникативистов еще более масштабно и разносторонне изучать проблемы и перспективы как глобализации, так и глокализации медиакультуры.
Чтобы эти процессы развивались с пользой для людей, они нуждаются в научно обоснованном равновесии участвующих в них сил и рычагов прогресса. Увеличение количества распространяемой информации не должно ухудшать ее качества. Разнообразие средств распространения не следует ущемлять, но нежелательно эти средства превращать в агрессивных конкурентов, преследующих эгоистические интересы медиабизнеса. Трансграничные потенции масс-медиа тоже надо использовать на благо человеку и человечеству для сотрудничества и диалогов в целях мирного решения возникающих проблем без информационных воин и «культурного колониализма». Поэтому по мере пополнения арсенала технических информационно-коммуникационных средств в коммуникативистике растет внимание к содержанию, целям и результатам этого процесса в глобальных и глокальных проявлениях, если от них ожидается служение людям и народам, нуждающимся в подлинно демократических правах на свободу доступа к доброкачественной и достоверной информации.
Существуют, однако, разные причины сохранения и в условиях глобализации процессов оцифровывания информационной техники «цифрового раскола» – неравенства между разными слоями населения и странами в отношении доступа к технике «цифрового века» и гуманно-демократических правил и целей ее использования. В 2010 году на страницах «Международного журнала цифрового телевидения» отмечалось, что эта «новая медийная технология, конечно, не гарантирует, как и не предотвращает демократию, но может быть для нее полезным инструментом»[117]. Такая идея возникает на основе не технологического детерминизма, а веры в то, что «есть простор для добывания знаний посредством сравнительных исследований». «Поэтому журнал намерен исследовать расширяющийся круг вопросов, вызванных трансформацией телевизионных операций и аудитории, рассматривая редакционные, финансовые, социальные и культурные измерения»[118]. Это помогает понять, что не сама по себе цифровая техника, а люди, создающие ее и условия пользования, создают и те или иные причины доступности или недоступности к ней граждан и стран.
В комплексе причин «цифрового раскола» рассматривается и концентрация медиаресурсов в руках могущественных монополий, имеющих возможность использовать свои силы для коммерциализации глобализирующегося медиакультурного пространства, получая при этом поддержку со стороны неолиберальной идеологии, в духе которой трактуются и правовые принципы с целью реализации любых притязаний таких монополий на соблюдение собственных коммерческих интересов и выгод в медиабизнесе. Аналитики отмечают, что кроме монополистов свою лепту в изменчивые интерпретации правовых норм и правил медийной деятельности нередко вносят представители государственных структур власти, занимающиеся разработками политических курсов для своих стран в национальных или транснациональных направлениях.
Этой теме в коммуникативистике посвящается немало исследований, среди которых заслуженной известностью пользуется содержательная монография авторитетного специалиста в области СМИ и их правовых аспектов Монро Прайса – «Медиа и суверенитет. Глобальная информационная революция и ее вызов государственной власти». Книга написана со стремлением заложить фундамент для «системного подхода к вопросам регулирования медиа в мире меняющихся технологий, смены корпоративных механизмов и переменчивых идеологий». Автор констатирует процессы «колоссального преобразования отношения государства к образам, сообщениям и информации», когда национальные государства и разные международные общественные организации принимают активное участие в «ремоделировании коммуникационных систем» и поисках новых концепций, спровоцированных информационной революцией, для учреждения «законов и институтов, которые обеспечивают правомочность сохранения власти или возможность получать выгоду от технологических преимуществ»[119].
Важную роль в формировании связей между масс-медиа и интересами государственной власти автор монографии отводит «рынку лояльностей» как сфере распространения по информационным каналам сюжетов, мифов и разных идей для поддержки этих интересов гражданами. «Рынки лояльностей, – по мнению Прайса, – существуют везде и во все времена. Но отличительной особенностью сегодняшнего рынка является круг его участников, размеры границ и характер основных средств регулирования, способных учреждать и придавать силу правилам соучастия и исключения»[120].
Процессы модернизации и глобализации медийных систем заставляют государственные власти по-новому (но не единообразно) смотреть на укрепление своего суверенитета и национально-культурную идентичность путем не отстранения от этих процессов и сопряженных с ними информационно-коммуникационных технологий, а в ходе использования их прерогативных качеств и возможностей для своих целей. Существенная функция при этом отводится новым медиа, которые способны передавать нужную информацию трансгранично, в больших объемах ее идеологического воздействия в соответствии с различными целями медиаполитики. В эту деятельность вовлекаются не только медиа, но и эксперты-аналитики, способные по-разному оценивать их задачи в разнообразных концепциях, посвященных публичной сфере, информационному обществу, свободному потоку информации и другим актуальным вопросам для дискуссий, в которых используется «риторика изменений»[121] – комплексы тропов как идейно-вербальных инструментов реструктурализации медиаполитики на «рынках лояльностей» в условиях их возможной глобализации.
На ведущую роль в этих акциях нередко претендуют защитники западных систем, но глобализация вносит свои коррективы в постановку различных проблем и поиски их решения на международном уровне при столкновении стремлений к национальной суверенности одних стран и попыток их подчинения интересам других мировых держав. В результате мир остается разделенным на лагеря в отношении к прокладыванию путей распространения информации с помощью техники. «Кое-кто считает, что транспортирование образов может (и должно) быть предметом национального контроля… Иные же государства пытаются защищать своего рода цифровую торговую монополию, эксклюзивно контролирующую обмен и распределение информации, передаваемой спутниками связи или, по крайней мере, пункты ее ввода и отправления»[122].
Как отмечает Прайс, в процессе глобальной реструктурализации медиа появляется особого рода «словарь желаний», формирующийся из набора таких идеологических фраз, как «обеспечение национальной безопасности», «укрепление национальной идентичности», «гарантирование права на получение и отправление информации», «защита рынка идей», «учреждение свободных и независимых медиа», «устранение торговых барьеров на пути потока данных» или «усиление и воспроизведение плюрализма»[123]. В эти выражения вкладывается желаемое содержание, как и в термин «приватизация». Когда подразумеваются усиление частного сектора и уменьшение власти государства в СМИ, это умаляет роль публичной сферы, но является выгодным для монополий, живущих за счет массового распространения своей информпродукции по всему миру и поэтому поддерживающих аналогичный режим в тех странах, куда они направляют свои товары для сбыта, не заботясь о том, что это может таить угрозу дискредитации национально-культурной идентичности.
Заостряя внимание на том, чти «экспорт идеологии функционирует для узаконивания инфраструктуры торговли»[124], исследование Прайса убеждает в том, что затронутые им новые тенденции и
проблемы глобальной информационной революции и ее вызовов общественно-культурной жизни и национальной суверенности различных стран мира нуждаются ввиду их чрезвычайной сложности и динамизма в системно-сравнительных анализах усилиями ученых разных профилей и разных регионов с учетом того, что в «истории ХХ в., а теперь и XXI в. повторяются отчаянные схватки за политические и религиозные основы мира и яростные состязания за овладение ценностями и идеями, которые их сопровождают». В схватках действуют разные общественные силы и структуры. «Новые медиамагнаты, новые региональные союзы, новая геополитика – все они соучаствуют с заранее продуманными целями в преобразовании информационного пространства»[125].
Такие идеи, резонируясь в работах многих коммуникативистов, приводят к выводу о том, что «политика в области коммуникаций оказывается на передовой линии не только в экономической, но и в социальной и культурной борьбе в соответствии с самой природной ролью коммуникаций как неотъемлемого элемента гуманности»[126]. Это подтверждается многочисленными сравнительными анализами процессов глобализации и глокализации в различных странах мира – высокоразвитых и развивающихся в «эру политического плюрализма, свободной рыночной экономики и либерализма в области медиа»[127]. Анализы не выявляют полного согласия мнений относительно роли медиа среди разных участников этих процессов, имеющих разные взгляды на свободу и ответственность СМИ в регионах, где на медийном поле развертывается борьба между игроками, выражающими интересы государственной власти, медиабизнеса и общественных организаций.
В странах, недавно освободившихся от колониальной зависимости, такая борьба нередко осложняется из-за экономического недоразвития и социального неравенства, обостряясь в условиях конфронтации между сторонниками глобализации и защитниками национальных интересов в преобразованиях социума и его медиасферы. В концептуальном арсенале исследователей этой непростой ситуации возникает даже идея модификации устоявшихся представлений о сторожевой роли СМИ и ее метафорического воплощения в образе «сторожевого пса» (watch-dog role of the press) с помощью нового имиджа – «собаки-проводника» (guide-dog) с функциями руководства, указания пути для медиа, чтобы они поддерживали решения задач, связанных с национальными интересами развития государства. Как отмечается на страницах «Газетт», «такие требования часто встречаются с сопротивлением со стороны медиа, которые защищают свою независимость любой ценой. Эта напряженность в отношениях между свободой и ответственностью в условиях новой демократии может усиливаться из-за глубоких социальных разногласий, унаследованных со времен авторитаризма, которые проблематизируют представление о «публичном интересе». А это обязывает исследователей вести сравнительные анализы и осмыслять выявленные тенденции и противоречия тщательно и «гибко», не упрощая их и не искажая зависимости как от глобальных тенденций, так и локальных, равно как и от состязаний между различными властными силами, воздействующими на медиа, которые «играют важную роль в формировании политических дебатов» и вместе с тем «сами становятся фокусом для дебатов и борьбы»[128].
Глава VI
Идеи коммуникативистов о предпосылках экономических кризисов и экологических угроз
Атрибутика постиндустриального капитализма, отличающаяся верой в особую приоритетную роль новейших достижений в области науки и информационно-коммуникационных технологий, бурное развитие которых наблюдается со второй половины XX века, в коммуникативистике нередко связывается с тенденциями к постфордизму. Суть этих тенденций проявляется в процессах отступления от принципов стабильности поточно-массового конвейерного производства, введенного в первой четверти прошлого столетия на заводах Г. Форда, и перехода к более мобильным, делокализованным и фрагментированным способам создания товарной продукции и накопления капитала с помощью инноваций в области электронных средств связи и их оцифровывания, обеспечивающих использование гибких форм применения непостоянной рабочей силы в режиме гибкого времени, гибкого пространства и гибкой специализации труда.
Коммуникативистов в этой атрибутике интересуют не только обращение к медийным факторам модернизации производства, но и сопряженные с ней опасности кризисов в сферах экономики и финансов из-за беспредельно приватизированного неолиберального маркетинга и технологического детерминизма, ведущих к игнорированию человеческих измерений и целей социально-культурного развития современного мира. Негативные явления прослеживаются в разных областях жизни, включая и те, которые связаны с прогнозами создания информационно-коммуникационных обществ знаний.
Обобщающий анализ различных взглядов на атрибуты постфордизма в связи с теориями постиндустриального общества и информационного общества содержится в книге Фрэнка Вебстера «Теории информационного общества», опубликованной в середине 1990-х годов, когда под влиянием развития Интернета интерес к ним существенно возрастает.
Вебстер не игнорирует, но и не абсолютизирует те или иные концепции, предпочитая относиться к их разнообразию с той долей умеренного скептицизма, которая позволяет ему не искажать коренные основы капиталистических отношений в условиях перемен. Черты капиталистической непрерывности требуют настойчивого внимания из-за очевидности того, что «главенство рыночных критериев, товарного производства, наемного труда, частной собственности и корпоративной организации продолжают существовать, устанавливая связи даже с отдаленным прошлым», – пишет Вебстер, считая, однако, неоспоримым, что «мы можем наблюдать и некоторые важные сдвиги в ориентации, некоторые новые формы организации труда, некоторые изменения в профессиональных моделях»[129].
Вебстер не оставил без внимания симптомы «глубокой рецессии, которые поразили капиталистические общества в 1970-е годы», вызвав реструктурализацию отношений и нестабильность, что ускорило изменения в капиталистической деятельности. Стали возникать «гибкие стратегии в производстве, маркетинге и в некоторой степени в потреблении. И абсолютно осевое значение для таких преобразований, как и для обращения с такими изменениями, стала иметь информация» на разных уровнях – от фабрики и офиса до всемирных корпоративных операций, играя «интегративную роль в поддержании и адаптивности капиталистических интересов и действий»[130]. Поясняя свои мысли, ученый подчеркивал, что «информация имеет главное значение для менеджмента и контроля в транснациональных корпорациях как внутри, так и вне их организаций». Теперь она играет все более важную неотъемлемую роль в трудовой практике вместе с компьютеризацией, обладающей всепроницающим влиянием. И поэтому «уже заметно усиление информационной интенсивности во многих видах деятельности»[131].
Идеи Вебстера, высказанные в адрес апологетов и критиков постфордизма, нашли свое дальнейшее развитие в работах коммуникативистов начала XXI века, когда все яснее стали проявляться риски нестабильности в финансово-экономических сферах, связанные не только с излишне гибкой специализацией меняющихся способов накопления капитала, но и с нелокализованной рабочей силой, получившей название «прикариата» (от precarious – случайный ненадежный, отзывной)[132].
Технологический детерминизм создает иллюзии для прикариата, относя его деятельность к сфере так называемого «невещественного труда» с помощью компьютерной техники. На самом деле этот труд направлен на выполнение заказов корпораций, а не на повышение квалификации тружеников и улучшение условий их жизни с гарантией занятости в условиях постфордистского режима нестабильности, создающего для временных рабочих кадров «непрерывно неустойчивую жизнь»[133], сопровождаемую угрозами смены профессий и безработицы. Советы сторонников прикариатства активнее использовать электронные средства коммуникации в какой-то степени могут помочь устраиваться на работу, но кардинально избавить от рисков нестабильности постфордизма они не в состоянии. Альтернативные идеи высказываются в коммуникативистике с позиций защитников не технологического детерминизма, а социально-гуманитарных функций СМИ, направленных на поддержание принципов демократии и справедливости в трудоустройстве людей, права на свободный доступ к знаниям и ценностям культуры, которые определяются в человеческих измерениях, а не товарных, служащих главным образом интересам медиабизнеса и владельцев крупного капитала. С позиции защитников гуманитарных функций медийных технологий в коммуникативистике критикуются и идеи сплошной коммерциализации не только деятельности СМИ, но и вкусов потребителей информации, оказывающихся во власти таких идей, распространяющихся нередко и благодаря Интернету, сети которого тоже используются в медиабизнесе. В итоге, как отмечается на страницах канадского журнала коммуникативистов, культивирование товарной формы коммуникаций «в значительной степени способствует эрозии общественных коммуникаций, поскольку они являются серьезной альтернативой по отношению к приватизированной системе коммуникаций»[134].

