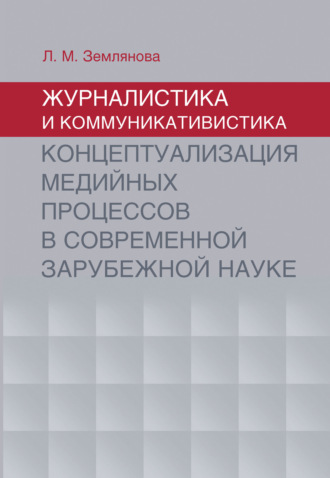 полная версия
полная версияЖурналистика и коммуникативистика. Концептуализация медийных процессов в современной зарубежной науке
В понятии репродуцирования Уильямс выделяет два возможных значения: 1) копирование текстов или произведений искусства и ремесел; 2) продление жизненных форм или воспроизводство знаний, опыта, традиций, социальных структур и знаково-жанровых систем. Первое значение более коррелируется с принципами рыночных отношений, второе – с сохранением национальных традиций культур, которые могут проявляться в стабильности языковых структур и различных творческих процессах. Им противостоят «системы объединенного и неуравновешенного культурного производства на транснациональном или паранациональном уровне»[58], если они стремятся к расширению своих коммерческих операций, а не к защите и развитию национально-языковой специфики культур.
Свою лепту в социологию культуры вносил и Герберт Шиллер, в трудах которого процесс глобализации экспорта информкультуры многопланово освещается как результат действий монополизированной рыночной экономики. В своей книге «Средства массовой информации и культурное господство» он писал о том, что «система маркетинга, созданная и доведенная до совершенства для продажи потребительских товаров промышленности, в настоящее время применяется также для продажи в глобальном масштабе идей, вкусов, взглядов и верований. Фактически на современной стадии развитого капитализма производство того, что капитализм любит называть “информацией”, превратилось в одну из ведущих и необходимых составных частей всей системы». В этой же связи Шиллер считал необходимым отметить, что «понятие коммуникации включает в себя намного больше, чем сообщения и признанные системы связи, по которым эти сообщения передаются. Коммуникация определяет социальные реалии и в этом смысле влияет на организацию труда, характер технологии, учебные программы системы образования и использование “свободного” времени, т. е. по сути на все основные социальные параметры образа жизни»[59].
И поскольку в комплекс этих социальных параметров входят и коммуникационные формы участия медиа в общественной жизни, создании инфоструктуры для демократии, системные подходы направляют внимание исследователей к проблемам защиты публичной сферы социума. Ввиду своей значимости и многоаспектности эти проблемы постоянно обсуждаются на конференциях и страницах различных изданий коммуникативистов, изучающих их в разных странах мира. Актуальность таких обсуждений растет, с одной стороны, под влиянием усиливающегося могущества монополий медиабизнеса и связанных с ним тенденций к глобализации маркетинговых принципов, а с другой стороны – благодаря деятельности убежденных противников «культурного империализма». А это ведет, как отмечал Шиллер, к «обострению культурно-коммуникационной борьбы – как внутри стран, так и на международной арене – между теми, кто стремится покончить с засильем, и теми, кто хотел бы закрепить существующее положение»[60]. Целью своего исследования ученый считал внесение вклада в эту борьбу.
Такую же цель преследуют и многие современные коммуникативисты, изучающие процессы развития СМИ с позиций системного подхода – взвешенно и объективно-исторически, с учетом многообразия тенденций и их взаимосвязей в различных сферах социальной жизни, которые влияют на содержание, форму и восприятие распространяемой информации и на образ жизни людей в разных странах и регионах меняющегося мира. Это имеет важное значение не только для участия коммуникативистики в демократизации общественной и научной деятельности, но и для повышения ее гуманистического потенциала, необходимого для решения всех острых экологических проблем – от сохранения природных и культурных ресурсов цивилизации до воспитания в людях ответственного отношения к ним.
В XXI веке круг таких проблем не сужается, а расширяется в условиях дальнейшего развития глобализации новых коммуникационных технологий и усложнения их связей с переменами на геополитической карте мира, с усилением угроз природных катастроф, информационных войн и кризисных ситуаций в финансово-экономических сферах. В коммуникативистике актуализируется потребность в изучении особенностей кроссмедиатизации меняющегося многополярного мира. Становится более разносторонней теоретическая концептуализация грядущего информационного общества, сопровождаемая критикой невнимания прогнозистов к социально-культурным аспектам процессов распространения информации в традиционных и новых медиа, которые могут использоваться в интересах либо защитников принципов равноправия и гуманизма, либо сторонников сохранения дисбалансов в мировом информационно-коммуникационном порядке.
Глава III
Актуальность теоретических принципов Анненбергской школы
Как отмечается в «Международной энциклопедии коммуникаций», Анненбергская школа коммуникаций была создана при Пенсильванском университете в 1959 году с целью изучения СМИ по трем направлениям: «анализ кодов и форм структурирования образов и сообщений, исследование поведения разных групп в коммуникационном процессе и изучение коммуникационных систем, институтов и политики. Эта новая концепция, ее продуктивность в исследованиях и публикациях внесли существенный вклад в тенденцию превращения изучения коммуникации в составную часть академической организации научного познания»[61].
В соответствии с этими направлениями под руководством профессора Джорджа Гербнера совершались тщательные контент-анализы телевизионных передач и результатов их воздействия на аудиторию – с особым вниманием к причинам распространения мотивов насилия. Излагая теоретические принципы и задачи такой работы, Гербнер и его коллеги отмечали, что они стремятся раскрыть системную сущность телевидения как средства отражения и поддержания сложившихся общественных отношений и структур. Если в прежние времена эту функцию могли выполнять мифология, фольклор, религия, опираясь на определенные ритуально-коммуникативные формы символической социализации и контроля, то в ХХ веке такую миссию стало выполнять телевидение – главный источник повторяющейся организованной системы символов, которые культивируют общественное сознание обширной массы людей.
В одной из программных статей утверждалось, что «телевидение – главное культурное оружие американского общества. Это средство установления порядка, способствующее расширению и укреплению, а не изменению, ослаблению или угрозам уничтожения общепринятых концепций, верований и форм поведения». Его главной социальной функцией является стабилизация социальных моделей, распространение и культивирование не изменений, а сопротивления им. «Телевидение – это средство социализации большинства с помощью стандартных ролей и поведения»[62]. В отличие от более ранних информационных систем телевидение насаждает потребительский образ жизни и потребительское отношение к своей информации. Но подобно системам прошлых эпох «мифы и легенды нового электронного духовенства»[63] активно вторгаются в сознание современных людей и связывают их с телевизионным экраном, усиленно отвлекая от чтения.
Включенные в систему телевизионной образности мотивы насилия не только угрожают общественным нормам морали и поведения, но и внушают страх. «Этот исторический инструмент социального контроля»[64] может быть не менее опасным результатом показа насилия, нежели агрессия. Причина заключается в том, что воспитанию страха, на котором основывается пассивное отношение к несправедливости, служат телевизионные передачи, смонтированные из мнимых образов реальности. «Мир телевизионной драмы – это смесь правды и фальши, точности и искажения. Это не истинный мир, а продление тех стандартизированных образов, которые мы заучили с детства»[65] и которые потребляются телезрителями «в шаблонных капсулах, содержащих продукцию массового производства информации и развлечений»[66].
Поскольку же из таких «капсул» складывается телевизионная система сюжетов и образов, только «широкосистемый анализ сообщаемых идей может раскрыть тот символический мир, которой структурирует общие обязательства и установки для рожденных в нем поколений и обеспечивает базой для взаимодействия (хотя и необязательно соглашения) между большими и разнородными группами людей. В целом эта система играет главную роль в установлении повестки дня для согласия или несогласия по спорным вопросам; она формирует наиболее распространенные нормы и культивирует доминирующие перспективы для общества»[67].
Для изучения этой системы телевизионных сюжетов и образов устанавливаются два уровня. На первом совершается системный анализ информационных сообщений, выявляющий композицию и структуру главных ареалов символического телемира (в сериалах, фильмах, драмах). Рассматриваются крупные и наиболее характерные комплексы телевизионной продукции, чтобы получить представление о географических и демографических параметрах изучаемых телепрограмм и главных особенностях тематики и персонажей. Устанавливаются четкие макрохарактеристики продукции, загружаемой в основной поток общественного сознания. Второй уровень – культивационный анализ, определяющий, что усваивается телезрителями в качестве норм и ценностей общественной жизни. «Здесь мы превращаем полученные данные системного анализа передаваемой информации о фантастическом телемире в вопросы о социальной реальности»[68].
В итоге становится ясным, что «телевидение, как иной любой мифический мир, представляет собой выборочную и функциональную систему сообщений. Ее время, пространство и движение, как даже и “случайности” следуют законам драматических условностей и социальной пользы. Ее люди не рождаются, а создаются для изображения социальных типов, причин, сил и судеб»[69]. Основное место в этой системе занимают представители высших и средних слоев, люди с престижными профессиями и хорошим материальным положением. Преимущественно это мужчины. Женщины фигурируют как носительницы любовных страстей и семейных интересов. Неудачники, выходцы из низших слоев мелькают реже. Ключевая роль в таком мире принадлежит теме насилия, потому что это «самое простое и дешевое драматургическое средство демонстрации правил игры за власть», ибо «в символическом мире открытое физическое действие делает сценически зримым то, что в реальном мире обычно прячется»[70].
Контент-анализы показывают, что под влиянием множества эпизодов с элементами насилия, демонстрирующего силу и являющегося инструментом социального контроля, который укрепляет и сохраняет существующий порядок в обществе пусть даже и ценою увеличения всеобщего страха, легче всего оказываются «тяжелые зрители». Они проводят у экранов значительную часть своего времени и погружаются глубоко в телемир, способный вызывать у них чувства риска и небезопасности, которые, в свою очередь, «усиливают уступчивость и зависимость от учреждений власти»[71].
Иными словами, как поясняется в «Международной энциклопедии коммуникаций», «культивационный анализ допускает представление телевизионных образов в качестве господствующей идеологии современных культур и пытается объяснить процесс, благодаря которому основные идеи, ценности и взгляды на мир питаются и поддерживаются телевидением»[72]. Суть такой идеологии заключается в воспитании конформистского образа жизни и веры в идеалы консьюмеризма, помогающие владельцам информационного капитала удовлетворять свои безграничные коммерческие интересы. Об этом пишут многие коммуникативисты, критикующие медиабизнес. Солидаризируясь с ними, Гербнер упорно отстаивает необходимость изучения «культурных индикаторов», характеризующих «институциональную политику, а не личные склонности или вкусы, общие тенденции и структуры, а не отдельные вопросы, произведения и качества»[73]. Это важно для понимания причин и последствий возрастающих масштабов влияния средств массовой информации на превращение телекультуры в огромную систему символов и образов, составляющих особый «синтетический мир» «со своим временем, пространством, географией, демографией и этнографией, которые подчиняются институциональным целям и общественной морали»[74]. Этот мир обусловливает чувства, характер мышления и поведения не отдельных людей, а масс. Средствам массовой информации принадлежит не пассивная, а активная роль, так как они не только распространяют, но и культивируют в общественной жизни системы взглядов на ее нормы и цели. Для их определения и изменения требуется знание культурных индикаторов – тех ключевых элементов изучаемого процесса, которые отображают и направляют ход его протекания и все основные качественные и количественные характеристики.
«Такие изменения необходимы для соотнесения культуры с другими крупными социальными системами типа экономики», – говорится в «Международной энциклопедии коммуникаций». Если экономические индикаторы определяют производство и потребление товаров в обществе, а социальные индикаторы характеризуют распределение и распространение благ (или невзгод), то культурные индикаторы устанавливают состояние культуры (равно как и ее репродуцирование и постепенные изменения), выявляя «образцы идей, верований и ценностей, которые управляют или управляются крупными социальными системами»[75].
Культурным индикаторам был посвящен специальный международный симпозиум, состоявшийся в Вене в 1982 году. Активное участие в нем приняли сторонники идей Анненбергской школы, заострявшие внимание на телевидении, продукция которого может быть отнесена к узловым индикаторам культурной жизни мира. «Телевидение, – сказал в своем докладе Дж. Гербнер, – выковывает политический баланс и культивирует типологию политических ориентаций, которую мы называем “коммерческим популизмом”. Эта стратегия ориентируется главным образом на основной поток “тяжелых зрителей”, которых объединяет не столько общность политических взглядов, связанных верой в большой бизнес, сколько сопряженность с телевидением, культивирующим для них представления о жизни и ее ценностях, приносящих пользу для “мобилизации массы потребителей” телепродукции и поэтому нуждающихся в “коммерческом популизме”»[76].
Деятельность Анненбергской школы не ограничивается изучением культурных индикаторов и мотивов насилия в телепередачах. Под руководством Гербнера внимание исследователей фокусируется и на развитии теоретического базиса коммуникативистики. Ученый утверждал, что коммуникации – неотъемлемый атрибут человеческой культуры, но их формы и значение меняются вместе с эволюцией общественных отношений и производства материальных благ. Особенности «новой индустриальной революции в сфере культуры», которые вносят существенные перемены в формы и функции информационных обменов, вызывают необходимость создания и развития теории, помогающей всесторонне изучать эти процессы.
В коммуникативистике такая теория должна формироваться на основе опыта различных общественных наук, готовых каждая в своем аспекте объяснять исторические причины нового состояния и значения информационных коммуникаций в жизни и культуре индустриально развитых стран. Каждое общество обладает какой-то коммуникационной системой, ибо человек является существом коммуникабельным. Но особое значение имеет «появление экстраординарного феномена – общества, организованные на основе масс-медийных систем»[77], – писал Гербнер, по мнению которого, несмотря на множество опубликованных работ на эту тему, еще не созданы «исторически инспирированные, эмпирически обоснованные, институционально ориентированные, сравнительные и критические теории, адекватные для изучения значения культурной роли и публичной политики масс-медиа»[78]. Такие теории должны обладать качествами многопрофильных знаний, объединенных стремлением объяснить, почему «политика массовых средств выражает не только стадии индустриального развития и общей структуры социальных отношений, но и различные типы институциональной и индустриальной организации и контроля»[79].
Иначе говоря, характер собственности на средства массовой информации определяет их место в обществе. «Народное самоуправление возможно в том случае, если люди, выступая как граждане, коллективно создадут политические альтернативы вместо того, чтобы только реагировать на них», а частные системы познания и взглядов будут трансформированы в публичные системы. По мнению Гербнера, «истинное революционное значение современных массовых коммуникаций и заключается в их возможности “создавать публичность”». Благодаря этому «формируются исторически новые основы для коллективной мысли и действия, быстро, упорно и повсюду преодолевающих прежние границы времени, пространства и состояния»[80].
Объединяя принципы историзма и демократизма в теоретическом базисе коммуникативистики, Гербнер постулирует необходимость изучать структурную организацию систем массовой информации в единстве с ее содержанием, так как при этом условии возможным становится объективное научное осмысление сущности медиа, выражающейся в различных социально-культурных обстоятельствах. «В ходе анализа содержания, – писал он, – мы хотим выяснить динамику изображения того, что есть на самом деле, того, что является важным, правильным, и как это соотносится с чем-то еще. То есть мы хотим знать, как распределяется внимание (отбор и частота тем); порядок расположения единиц информации и их очередность (путем выделения); способность оценки и критики в контексте и относительно некоторых нормативов; какие группы информации стремятся к объединению в пучках и определенных контекстах»[81].
Гербнер последовательно отстаивал идеи, подразумевающие сочетание достоверности научного системного анализа содержания, формы и средств распространяемой информации для массовой аудитории с гражданской позицией исследователей, беспокоящихся о социальных функциях медийных процессов. В своем докладе на Международной конференции в Брюсселе в 1997 году он выступил с критикой тех «увечий», которые наносятся культуре, оказывающейся под воздействием глобализирующейся коммерциализации СМИ, превращающей информационные сообщения в рыночные отношения купли-продажи товаризованной массовой информ-продукции.
Чтобы доказать, как возникло такое превращение, Гербнер совершает экскурс в историю коммуникаций и напоминает о том, что издревле в воспитании человека и его интеллектуального развития важную роль играли словесные общения и повествования. «Возвышенные структуры повествований возбуждали интерес к искусству, науке, религии, праву, политике, государственной мудрости, новостям и т. д., определяя и направляя мир, в котором мы живем»[82]. Но в ходе революций индустриальной и электронной роль словесной культуры в жизни человечества терпит изменения. Печатный станок дает возможность обмена мыслями и чувствами без непосредственных личных контактов, ограничивая условия доступа к печатной информации грамотностью, но все же оставляет и «пространство для повествовательной деятельности с различных позиций дома или в общественных объединениях»[83]. Иной становится ситуация в ходе электронной революции, когда впервые за всю историю человечества рассказы о людях, их жизни и ценностях большей частью стали сообщаться не из уст родителей, не в школах или церкви и в иных общественных местах, а «группой отдаленных от них конгломератов, которые должны что-то продавать». Представления о жизненных ценностях, не создаваемые более «вручную» дома и не вдохновляемые общественными объединениями, превращаются в продукты комплексных усиленно интегрирующихся и глобализирующихся производственных и рыночных структур, неотъемлемой частью которых становится тема насилия в телепередачах. Такая стратегия приносит выгоды и прибыли ее создателям, но «опустошает таланты, ограничивает свободу и расхолаживает оригинальность»[84].
Гербнер не теряет веры в существование альтернативной позиции, связывая ее с участием в общественном движении, посвященном защите культурной среды, а не с технократическими «супермагистральными» фантазиями о «партисипационном рае»[85] в сфере новых электронных медийных сетей. По мнению ученого, «освобождающая альтернатива требует гражданской деятельности», ибо «никакая другая сила не сможет обеспечить широкой поддержкой, необходимой для снятия глобальной рыночной петли с шей продюсеров, писателей, директоров, актеров и журналистов»[86].
Глава IV
Критические анализы мультмедиатизации современной общественно-культурной жизни мира
Мультимедиа и мультимедиатизация – термины весьма характерные для современной коммуникативистики, изучающей те процессы в жизни общества и культуры, которые совершаются под влиянием интенсивного развития информационных технологий. Динамизм и многообразие таких процессов находят свое отражение не только в широком распространении этих терминов, но и в их меняющихся значениях. Первоначально слово multimedia сино-нимизировалось со словами mixed media в обозначении комплекса различных средств, применяемых в экспрессивных целях во время спектаклей, при чтении лекций, проведении концертных и других культурных мероприятий (демонстрации фильмов, слайдов, звукозаписей и т. п.). Но в условиях распространения новых электронных средств связи и информации термин начинает употребляться применительно к результатам образования интеграционных полифункциональных систем, способных трансформировать мессиджи, переводить их из одних форм в другие с интерактивным использованием в разных контекстах и с разными целями. С помощью таких систем тексты могут быстро кодироваться и декодироваться в тех или иных вариантах записей, тиражироваться в требуемом количестве и рассылаться по адресам на любые расстояния.
В консультативных документах, подготовленных экспертами Совета Европы, термин мультимедиа трактуется как обозначение «сочетания неподвижных или подвижных образов, звука и данных в цифровой форме, помогающего их хранению, копированию и передаче без потери качества». При этом отмечается, что «на практике слово “мультимедиа” используется также применительно к компьютерам, программам (к их содержанию или к физическому средству выражения), к сетям с высокой пропускной способностью и к интерактивным видам служб, осуществляемых в таких сетях»[87].
Вместе с эволюцией понятия «мультимедиа» меняется содержание и объем связанных с ним терминов «мультимедиатизация» и «кроссмедиатизация», используемых при изучении многообразных процессов трансформации и конвергенции, в которых участвуют традиционные и новые электронные медиа, оказывая влияние на различные сферы социально-культурной жизни современного мира. В терминах подразумевается также усиливающееся значение не просто медийных, а именно новейших комплексных и нередко гибридизированных технологий, формирующих мультимедийность – многомедийность (лат. multum – много) и многократность функциональных преобразований пересекающихся средств информационных коммуникаций (cross – скрещивать, пересекать).
Чем же это объясняется? Средства информации и коммуникации всегда помогали развивать культуру, осваивать природные ресурсы, создавать общественные ценности и поддерживать традиции, передавая их из века в век грядущим поколениям. Оглядывая общим взором многовековой путь эволюции информационно-коммуникационных средств – от устно-словесных форм общения к письменности и печатному станку, к телеграфу и кино, к радио и телевидению, нельзя не признать, что характер и типы фиксации и передачи обретаемой информации менялись и улучшались от одного этапа цивилизации к другому благодаря не только изобретению новых технических средств, но и умению расширять их эффективность, не уничтожая, а храня и модернизируя лучшие качества форм и функций общения, приспосабливая их и модифицируя применительно к меняющимся требованиям жизни путем ремедиации. В трактовке современных коммуникативистов этот термин означает, что книгопечатание не ликвидирует потребность в устных или эпистолярных формах общения, фотография не вытесняет стремления к живописи и в свою очередь не становится жертвой кинематографа или телевидения, которые, как и радио, могут развиваться наряду с распространением и чтением книг, журналов и газет, черпая из них интересную информацию. Можно сказать, что благодаря ремедиации формируются и современные процессы мультимедиатизации мира, в которых на приоритетную роль сегодня активно претендуют электронные технологии, способны собирать, обрабатывать и транслировать информацию в невиданных ранее формах и масштабах ее разнообразия, изобилия и мобильности распространения. Эти качества оказывают стимулирующее воздействие и на ремедиацию парка традиционных СМИ.
С помощью Интернета и мобильной телефонии, а также иных вновь конструируемых технических инструментов связи трансгранично с расширяющимся целевым диапазоном могут распространяться электронные версии газет, журналов, книг, радио и телепрограмм, допуская как сохранение традиционных форм их употребления, так и одновременно усиливая потребность в ремедиации, отвечающей требованиям меняющихся условий жизни и общественно-культурной деятельности людей.
В коммуникативистике, изучающей причины, характер, результаты и перспективы этих тенденций, полного единства мнений нет. Но ведутся дискуссии и поиски адекватных теоретических позиций для корректного и взвешенного решения возможных проблем. Наряду с оптимистическими надеждами на сохранение и улучшение условий сосуществования многообразных средств информации путем полезной интернетизации традиционных медиа и медиатизации (или мультимедиатизации) Интернета высказываются и сомнения, напоминающие прогнозы Г. М. Маклюэна относительно гибели печатной культуры в борьбе с телевидением. Возбудителем таких сомнений нередко становятся еще до конца не проясненные последствия интернетизации мира, которые ассоциируются с противоречиями мультимедиатизации. Все более очевидной для коммуникативистов становится важность не односторонних, а разносторонних методов исследования всех этих сложных явлений и объединения их в системном междисциплинарном подходе к изучению мультимедиатизации современной преобразующейся жизни в различных странах мира.

