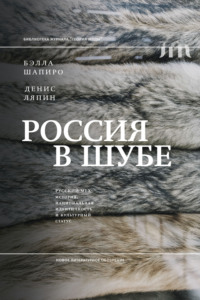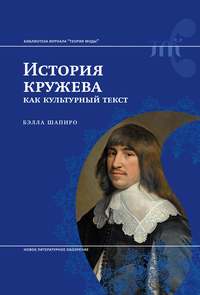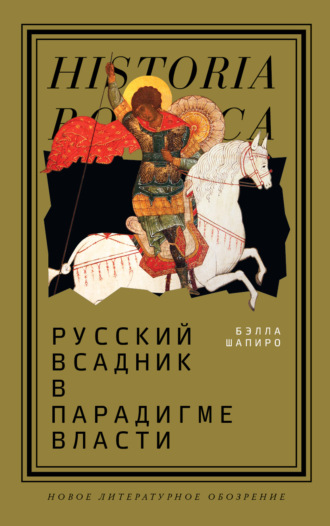
Полная версия
Русский всадник в парадигме власти
На волне интереса к немецкой образовательной системе в самом начале 1705 г. царским именным указом для «бояр и околничих и думных и ближных и всякого служилого и купецкого чина детей их»859 в доме боярина В. Ф. Нарышкина на Покровке была открыта еще одна немецкая школа «для общия всенародные пользы»860. Руководил школой лифляндский пастор И. Э. Глюк – переводчик, книжник и просветитель, близкий к царю861. Плененный при взятии русскими войсками Мариенбурга в августе 1702 г., первоначально он был направлен в Посольский приказ «для государева дела»862. С января 1703 г. Глюк числился на русской службе и получал жалованье. В феврале того же года ему были переданы ученики немецкой профессиональной языковой школы, существовавшей при Посольском приказе, где обучали «русских детей европским языкам»863 для государственной службы.
С передачей школы Глюку ее концепция была изменена, и учебная программа расширилась за счет общеобразовательных и общеразвивающих дисциплин. Целью стала не узкая прикладная подготовка, а разностороннее светское образование. «Заведены школы разных языков учиться, и просто назвать академия, и кавалерских наук на лошадях, и на шпагах, и бандире864, и музыке, и инженерству»865, – отметил в своем дневнике появление первой отечественной гражданской школы царский сподвижник Б. И. Куракин.
По указу от 7 марта 1705 г. в школу принимали недорослей «всякого состояния» возрастом от 12 лет. Ученики делились по возрастам на 3 группы. Кавалерийское искусство изучали все без исключения; курс верховой езды и дрессировки лошадей «Рыцарская конная езда и берейторское обучение лошадей» преподавал военный инструктор Иоганн Штурмевель (Johann Sturmwell)866. «Конский учитель, охотников от первых детей научает кавалиерским чином ехати, и лошадей во всяких школах и манерах умудрити»867, – гласило «Приглашение к российским юношам аки мягкой и к всяческому изображению угодной глине», рекламный проспект, составленный пастором к открытию школы. «Приглашение» сопровождалось приложением «каталога учителей и наук».
О действительном положении дел мы знаем немного. Не сохранилось документа, который подтверждал бы объявленные программу и преподавательский состав. Сам «конский учитель» не упоминается ни в расписании уроков, ни в школьной платежной ведомости868. Можно только предположить, что учитель-немец преподавал по методам, принятым в рыцарских академиях его отечества869, а качество обучения было достаточным для невысокого по европейским меркам московского уровня. Минимальная программа обучения в первые годы XVIII в. включала в себя подъем в галоп по сигналу трубача, смену аллюра, разворот из походной колонны в шеренгу для атаки, сомкнутый строй «колено в колено», вольтижировку с оружием, искусство рубки и конное фехтование870.
Достоверно известно, что школа располагала собственной конюшней и в ее бытность на Покровке, и позднее, когда после пожара в сентябре 1707 г. она была переведена на Новгородское подворье на Ильинке. Упоминаний о наличии в школе собственного манежа нет, в том числе и среди подробного описания ее благоустройства871, но известно, что имелся обширный двор, где вполне мог разместиться плац для занятий.
Собственных лошадей «для всяких повозок»872 школа получила в 1706 г., когда ей были выделены из дворцовой канцелярии две лошади. К началу 1706 г. относится прошение школы иметь «шесть лошадей общих» и «конюшню деревянную взамен каменной»873. В марте 1706 г. по царскому указу было велено купить четыре лошади «учителям для их нужд», в том числе две по 10 р. и две по 8 р. (стоимость лошади для рекрута в те годы равнялась 12 р.874), «а также и строение»; но в июле того же года «четырех лошадей велено взять из Дворцовой канцелярии, которые в той канцелярии по вышеписанной цене есть… а буде в той канцелярии и конские кормы, сено и овес, есть, и тех лошадей прислать и с кормами, по скольку иным таким же лошадям тех кормов дают»875.
Если предположить, что дворцовые лошади были задействованы и для хозяйственных нужд, и для обучения школьников (количество которых в 1706–1708 гг. доходило до сотни)876, становится очевидным, что для качественной работы их было явно недостаточно. Но, как уже отмечалось, именно эти годы были для русского государства самыми безлошадными877, и наличие в школе собственных лошадей, пусть не специальных «доброезжих» (спокойных, подходящих для новичков), было много лучшим, чем полное их отсутствие.
Основное место в школьной программе отдавалось языковой подготовке; на все прочие дисциплины суммарно отводилось не более 2–3 часов в день878. Такое распределение учебных часов было еще одной причиной, почему ученики немецкой школы занимались верховой ездой нечасто. В списках их достижений кавалерийское искусство не упоминается; косвенные свидетельства говорят о невысоком качестве верховой подготовки.
Можно предполагать, что именно неудовлетворительное материальное обеспечение школы и характерный для петровского времени интерес к сугубо практическому обучению послужили к тому, что при преемниках Глюка (пастор умер в мае 1705 г.) школа начала утрачивать общеобразовательный профиль, постепенно трансформируясь сначала в четыре, а затем в две отдельные языковые школы, «оставив по себе смутную память как об академии разных языков и кавалерских наук на лошадях, на шпагах»879. Инструктор Штурмевель вернулся к службе в армии880.
Обе школы, и немецкая, и навигацкая, прекратили свою деятельность с развитием новой столицы, куда были переведены учителя-иноземцы881. Вместе с ними отправились и ученики «молодые добрые и умные, которые б могли науку восприять… летами от 15 до 20»882. Некоторые были направлены для продолжения обучения в Европу883. Лучшие выпускники Навигацкой школы по царскому указу направлялись в крупнейшие города России для учительской работы, распространяя европейскую образовательную модель, а вместе с ней – и европейскую культуру. В 1716 г. были открыты аналогичные школы в 12 городах, к 1722 г. – в 42 городах884.
В 1715 г. в Петербург были переведены и старшие (морские) классы Навигацкой школы885, а оставшиеся в Москве элементарные классы получили статус подготовительного отделения. Чуть раньше (в 1712 г.) отделились специальные инженерная (на 100–150 учеников) и артиллерийская (на 20 учеников) школы. Судя по немногим имеющимся документам, обучение в них велось по образцу Навигацкой школы886.
Эти школы продолжали свою деятельность в Москве до 1719–1721 гг., после чего также были переведены в Петербург887. Там обучение продолжилось в формах, сложившихся в Москве: кавалерийское искусство составило часть универсального европейского образования. Можно предполагать, что физическая активность осталась в русле приоритетных направлений. Об этом косвенно свидетельствует «План всенародного обучения» сторонника европейской образовательной системы боярина Ф. С. Салтыкова, представленный в том же 1712 г.: согласно ему, образованные русские юноши должны были уметь «на лошадях ездить, на шпагах биться, танцовать для обороны собственной и изящества»888.
Очевидно, эти первые московские школы не могли дать петровской кавалерии ни стабильной поставки новых кадров, ни их качественной подготовки. Тем не менее их деятельность сложно переоценить: обе они послужили к формированию новой российской военно-придворной элиты и одновременно к усвоению западноевропейской культуры.
2.1.4. ВЕЩНЫЙ МИР РУССКОГО ВСАДНИКА ДО И ПОСЛЕ ПОЛТАВСКОГО ТРИУМФА
К концу Московского царства Россия была страной с весьма неоднородной культурой; вещный мир подчеркивал этнические различия множества населяющих ее народов. Общероссийского костюма как категории еще не существовало: на рубеже XVII–XVIII вв. он не осознавался совсем, либо понимался как совокупность национальных одежд различных этнических русских групп889. Здесь был хорошо известен и европейский, и азиатский костюм. Иноземные путешественники, дипломаты, купцы, военные, врачи и зодчие бывали на Руси с давних времен. Их одежды зачастую становились основой новых форм, которые впоследствии считались русскими.
«Немецкое», т. е. европейское платье было известно в допетровской России как ездовое (выездное, парадное)890 и как неформальное. Юпы, курты, кабаты, гусарские шубы, немецкие шляпы и башмаки были в числе снаряжения придворных потешников, царевичевых стольников, а затем и самих царевичей с 1630‐х гг.891 И. Е. Забелин приходит к выводу, что «малолетние сыновья царя Михаила и почти весь их штат одеты были в немецкое платье»892. Известно пристрастие к европейской одежде, тканям, конскому убору, оружию и другим предметам домашнего обихода боярина Н. И. Романова893. Отдельные предметы европейской одежды имелись у царей, сановного дворянства и придворных низкого ранга, чей костюм представлял причудливое смешение относительно самостоятельных и заимствованных элементов. Во второй половине XVII в. интерес к чужеземной культуре стал настолько велик, что в августе 1675 г. последовал указ царя Алексея Михайловича «О неношении платья и нестрижении волос по иноземскому обычаю чтоб… тако ж и платья, кафтанов и шапок, с иноземских образцов не носили, и людям своим потому ж носить не велели»894. Этот указ, разграничивший разрешенную «русскую» и запрещенную «иноземную» одежду, относился к последним месяцам правления Алексея Михайловича.
Его преемник царь Федор Алексеевич не был сторонником «многодельных» и многослойных, долгополых одежд; им на смену пришли другие, более удобные формы. Образцом послужило современное царю польское платье. Неофициальным дополнением новой моды стало брадобритие895. Эта программа по преобразованию внешнего облика была довольно прогрессивной, но, рассчитанная на узкий круг придворных, не могла послужить основой создания общероссийской моды896.
Ключевым моментом в развитии русского вещного мира как универсальной категории стали петровские реформы – одно из переломных для страны событий. Именно в это время ее население принудительно вовлекается в европейский культурный ареал: европейская мода вводится как императив сначала среди придворных, а затем и в самом широком кругу897.
Радикальные изменения начались с единоличным правлением Петра I (1696). Знаковым стало возвращение царя из Великого посольства в конце августа 1698 г., сразу после чего «на торжественном приеме боярства в Преображенском он начал резать боярские бороды и окорачивать кафтаны»898. Та же сцена повторилась через несколько дней на пиру у генералиссимуса А. С. Шеина899. Новый облик подданных900 стал частью культурных реформ, призванных превратить Россию в европейскую державу.
После указа о бритье бород была начата разработка статута первого российского ордена – ордена Св. апостола Андрея Первозванного, который почитался как покровитель России901. Оба начинания были задуманы Петром во время его пребывания в Англии: там был сделан эскиз будущего ордена, там же были наняты два «балбера» (брадобрея)902.
На настоящий момент выявлено более 40 «костюмных» и «околокостюмных» Высочайших указов и постановлений Св. Синода с Высочайшей резолюцией, изданных за время правления Петра I. Их можно условно разделить на несколько блоков:
1) о европейском внешнем виде подданных;
2) о военной и гражданской униформе;
3) о наградной системе и знаках отличия;
4) об ограничении роскоши;
5) о поддержке отечественного производства одежды, аксессуаров и тканей по европейским образцам.
Не осталась в стороне от петровских преобразований и русская армия, основой которой была драгунская кавалерия. Ее вовлечение в пространство европейской культуры проходило весьма динамично.
Первым из царских указов, особо значимых в этом контексте, стал указ от последних дней декабря 1701 г. Он жестко регламентировал вещный мир русского всадника, и гражданского, и военного («О ношении всякого чина людям Немецкого платья и обуви, и об употреблении в верховой езде немецких седел… всяких чинов людям носить платье Немецкое верхнее Саксонския и Французския, а исподнее камзолы и штаны и сапоги и башмаки и шапки Немецкия, и ездить на Немецких седлах; а женскому полу всех чинов… и детям носить платье и шапки и кунтуши, а исподнее бостроги и юпки и башмаки Немецкие же, а Русского платья и Черкесских кафтанов и тулупов и азямов и штанов и сапогов и башмаков и шапок отнюдь никому не носить, и на русских седлах не ездить, и мастеровым людям не делать и в рядах не торговать…»903).
На этом, как известно, реформы не закончились. Учреждая драгунскую кавалерию по европейскому образцу, Петр I создает для нее и европейский мундир, а для драгунских лошадей – европейский конский убор904.
Понятие «мундир» было введено еще в 1700 г.905; он включал в себя «полную дачу»: не только одежду, но и головные уборы, обувь, галантерею и нательное белье и прочее906. С осени 1698 г. и до конца 1702 г. драгунский мундир имел своим образцом так называемое «венгерское платье» (венгерский кафтан)907. В первые годы реформ мундир (в том числе амуниция, снаряжение и вооружение) и конский убор не соответствовали установленной норме, о чем свидетельствуют многочисленные доклады Петру I генерал-фельдмаршала Б. П. Шереметева908. Мундиры были произвольной формы: драгунам первых полков выдали по 4 р. каждому на покупку красных кушака и шапки и темно-зеленого кафтана909. Разница между мундирами разных чинов состояла преимущественно «в превосходстве доброты сукон»910 и в качестве и количестве отделки911. В отсутствие «прогрессивных» немецких седел лошади все еще седлались запрещенными царским указом от 1701 г. седлами старого русского типа – громоздкими, подбитыми войлоком, с высокой крышкой и переметными сумами912.
Попытки выправить положение дел были сделаны почти сразу же: новый «европейский» внешний вид был частью царского замысла по реформированию армии. С 1703 г. отмечены первые централизованные закупки сукна на мундирные кафтаны913; начато изготовление немецких седел и мундштучного оголовья для драгунских полков914. В именном указе от 8 апреля 1704 г. в качестве требуемой амуниции уже указываются «немецкие седла с войлоки и с пахвы, узды с мундштуки и с наперстьми»915; в этом же году драгуны в «уборе немецкой конницы»916 присутствуют на торжественной встрече турецкого посланника в Москве.
1703–1705 гг. представляли переходный период917, когда европейские мундир и конский убор постепенно замещали все более ранние формы (в то время материальное обеспечение было крайне разнообразно даже в одном полку). Именно на этот период приходятся первые победы русской кавалерии.
С 1706 г. как часть драгунского обмундирования упоминаются зеленые кафтаны и штаны из оленьих и лосиных кож. В качестве «образцовых» фигурируют кафтаны с бархатными обшлагами и ворониками» (для выборного драгунского шквадрона князя А. Д. Меншикова)918. Эффектный внешне мундир был призван подчеркнуть престиж военной службы.
В качестве образцовых также могли служить мундиры рейтар Любовицкого, взятых в плен в Калишской операции, после чего присягнувших на службу России. «Доношу вашей милости, что… люди зело изрядные и убраны по-немецки, а особливо мундир на них зело добр: кафтаны темно-зеленые и всем убраны, как Немцы, что ежели велит Бог, сам изволишь увидеть», – докладывал А. Д. Меншиков Петру I 23 сентября 1706 г.919
С того же 1706 г. русской армией использовались преимущественного немецкие седла: «Уже на мой полк немецких седел пять сот в готовности есть отпущено ко мне с Москвы и ныне в пути…» – докладывал А. Д. Меншикову полковник драгун Г. И. Волконский в ожидании выступления из Тулы (30 июля 1706 г.)920. Положение постепенно налаживалось; к 1706 г. полкам были доданы амуничные вещи, не полученные ранее из‐за недостаточного снабжения. Так, Ингерманландскому драгунскому полку наконец-то были даны шпоры, недоуздки и попоны, задержанные при первичном сформировании в 1704 г.921
К этому времени в организации русской регулярной кавалерии были достигнуты более чем серьезные успехи; параллельно оформлялся и структурировался ее вещный мир. В 1708 г. для заготовки мундира и снаряжения была устроена общеармейская Мундирная канцелярия; в скором времени снабжение драгун было передано новосозданной Мундирной канцелярии от кавалерии922. С этого года прекратилось снабжение пехоты новыми камзолами: из‐за нехватки средств на обмундирование их предполагалось изготавливать из старых кафтанов и епанчей. Драгуны, как имевшие более высокий статус, получали кожаные камзолы923.
В 1709 г. были определены цвета драгунского мундира: кафтаны темно-зеленые или белые, а епанчи – красные. В итоге «среднестатистический» драгунский мундир к концу первого десятилетия реформ включал в себя шляпу или, реже, карпуз; черный или красный триповый галстук; зеленый, белый или синий кафтан с красным прикладом и медными пуговицами; камзол козлиной кожи; штаны козлиной кожи; «конные» сапоги со штюльпами, кожаными подвоями или фальшвадами, на высоком каблуке, со съемными (на ремнях) шпорами; чулки; башмаки; портупею, перевязь и лядуночный ремень из яловичной кожи, с медным или железным полуженым прибором924. Конский убор включал в себя немецкое седло (его прототипом было седло европейской рыцарской кавалерии) с паперстью, пахвями и железными стременами, мундштучное оголовье, чепрак и чушки (чехлы на пистолетные ольстры), переметные сумы, попону925.
Так выглядели русские драгуны во время первых крупных боевых успехов – при Лесной осенью 1708 г. и под Полтавой летом 1709 г., когда Россия, по словам В. Г. Белинского, «громами Полтавской битвы возвестила миру о своем приобщении к европейской жизни, о своем вступлении на поприще всемирно-исторического существования»926. Европейский военный мундир стал одним из вещественных символов петровских реформ и петровской эпохи в целом.
Следующий виток реформ пришелся на 1711 г., когда были установлены первые штаты русской армии927 и законодательно закреплено единообразие мундира и конского убора драгун928. В конце 1712 г. кавалерия получила новый мундирный регламент (его исполнение было затруднено, особенно в дальних гарнизонах). Расхождение между проектным и реальным мундиром отчасти объяснялось тем, что вещевые подряды не всегда охватывали все обмундирование разом. На этом этапе требуемое единообразие выдерживалось, по возможности, хотя бы внутри полка.
Единообразие мундира и конского убора достигалось прежде всего централизованным, преимущественно отечественным изготовлением (указ от 18 марта 1718 г. «О делании в Москве на армейские полки мундиров полковыми портными»929 и т. п.); местное производство, кроме того, давало и некоторую экономию средств. В 1720 г. были утверждены новые штаты, табели, а вместе в ними и новые мундирные образцы930. Началась унификация офицерского мундира.
Итогом преобразований стало распространение во всей Российской империи общероссийского мундира, полностью соответствовавшего требованиям современной европейской культуры. Разрыв с традициями и переход от «венгерского» кафтана к мундиру по европейской моде стал еще одним «шагом в комплексе мероприятий по созданию армии как социального института, оторванного от населения и служащего опорой престолу <…> где солдат становился нижним звеном в управляющей вертикали»931.
Результат реформ был изложен в январе 1722 г. в «Табели о рангах…» в следующей формулировке: «Понеже такожде знатность и достоинство чина какой особы часто тем умаляется, когда убор и прочий поступок тем не сходствует… того ради напоминаем мы милостиво, чтоб каждый такой наряд… имел, как чин и характер его требует»932. Нарушители новых порядков наказывались штрафами и ссылкой на каторгу933. Побочным эффектом жесткой регламентации стало почти полное вытеснение традиционного костюма из ареала имперской культуры934.
Одним из последних петровских нововведений стал указ 4 декабря 1724 г., прямо запрещающий изготовление партикулярной одежды, схожей с военным мундиром («О неношении форменных цветов и обшлагов, с какими делаются драгунские и солдатские мундиры, людям неслужащим в сих командах… и чтоб неведением кто не отговаривался, того ради объявляется, что в армию строятся кафтаны из сукон разных цветов, а именно: из зеленых с красными, да из синих с белыми обшлагами»935).
Очевидно, что в системе реформ Петр Великий отводил европейскому мундиру роль конкретно понимаемого современниками визуального кода, указывающего на положение личности в новой имперской иерархии. Петровский военный мундир стал определенным социальным цензом, маркером принадлежности к новому миру силы и власти. Благодаря громкой победе петровские начинания получили легитимное измерение936; успех развития милитаристского сценария открывал пути для дальнейшего оформления новой национально-государственной культуры.
2.1.5. ИТОГИ РЕФОРМИРОВАНИЯ. НЕЗАВЕРШЕННОСТЬ РЕФОРМ
Еще в Полтавском сражении Петр I обратил внимание на то, что шведы сидели на лошадях «заводской крови»937. Сравнение шведских и русских лошадей оказалось не в пользу последних. Часть этих эффектных лошадей была захвачена938 и отправлена в качестве племенного материала на Коломенскую государеву конюшню как «образец для русской конницы»939. С этого момента началось восстановление упраздненного в первые годы столетия отечественного коневодства, конечной целью которого было названо полное обеспечение не нужд дворца, как ранее, а русской армии940.
Одними из наиболее подходящих для кавалерии в то время признавались шлезвиг-голштинские лошади, быстрые, выносливые, крепкие, но при том гармоничные. В январе 1712 г. была сделана попытка завести эту породу и в России: издается указ «завести конские заводы, а именно: в Казанской, Азовской и Киевской губерниях; а для заводу кобыл и жеребцов купить в Шлезии и в Пруссах»941. В ожидании результатов по обеспечению армии конским составом были приняты меры по поддержке торговли лошадьми942.
Продолжались «лошадиные наборы» и наборы конных рекрут943. К 1711 г., согласно первым Штатам русской армии, регулярная кавалерия была представлена 33 драгунскими полками на 33 тысячи лошадей944. На армейские нужды был изъят почти весь племенной состав дворцовых конских заводов и конюшен945. Прекратило существование большинство частных конных заводов, не получив освобождения от наборов946. В военных переходах 1710 г. своих любимых лошадей потерял вельможа, военачальник и коннозаводчик Б. П. Шереметев, после чего изливал свое горе Я. В. Брюсу: «Где мои цуги, где мои лучшие лошади: чубарые и чалые и гнедые цуги? Всех марш истратил: лучший мерин, светло-серый, пал»947.
Промежуточные результаты преобразований были закреплены в Воинском уставе от 30 марта 1716 г., составленном при непосредственном участии Петра I на основе шведского военного законодательства948. Устав включал в себя нескольких частей: «Устав воинский», «Артикул воинский с кратким толкованием», «Краткое изображение процессов» и «Экзерциции»949. Он имел систематическое построение; много внимания – уже традиционно – уделялось приемам обучения. «Каждый полк по списку пересмотреть и при том гораздо примечать каждого офицера и драгуна, в совершенном ли они порядке обретаются… как их должность по воинским регламентам требует, и имеет ли надлежащую чистоту… в воинской арматуре, ружье и во всякой амуниции и в мундире, також лошади драгунские и подъемные, и конская сбруя… в добром ли присмотрении и чистоте обретается, и во всем ли такой порядок содержится как Воинский Устав повелевает и должность офицерская требует… Не меньше всего того вышепомянутого надлежит стараться, дабы добрая и благо искусная экзерциция была… как храброй и благообученной кавалерии принадлежит», – предписывалось инструкцией «Об осмотре кавалерийских полков и о принятии оных в команду», созданной на основе Устава950.
В 1720 г. вышла «Инструкция» А. Д. Меншикова, в которой отмечалась необходимость дважды в неделю обучать кавалеристов экзерцициям на лошадях и давались подробные указания по конному обучению951.
Все сохранившиеся конные заводы были собраны в ведении Большого Приказа. В 1721–1723 гг. в дворцовых заводах насчитывалось 2578 «всяких статей лошадей»952 улучшенного качества. Астраханский губернатор А. П. Волынский получил распоряжение «завесть в Астрахане чистых лошадей от Персидских жеребцов и Черкесских кобыл»953. Этот указ, как и указ по коннозаводству от 1712 г., не был выполнен (один – из‐за неудачного окончания Русско-турецкой войны 1710–1713 гг., другой – из‐за начавшейся вскоре войны с Персией). Незавершенность реформы конского хозяйства затрудняла и замедляла ход военных реформ.
* * *Таким образом, к образованию империи 22 октября 1721 г. реорганизация русской конницы была в целом завершена954. Главным источником и импульсом (внутренней пружиной) преобразований явились итоги «жестокой трехвременной школы» Северной войны (1700–1721). Война, завершившаяся 30 августа 1721 г. Ништадтским миром, показала качественное изменение русской конницы, подготовленной в боевых условиях. Оставаясь численно близкой к дореформенной955, архаичная конница была преобразована в боеспособную регулярную кавалерию, чей уровень не только отвечал тактическим требованиям западноевропейского военного искусства рубежа XVII–XVIII вв., но и превосходил их. При этом накопленный поколениями опыт и национальные черты, свойственные русской коннице в допетровское время, – смелость и решительность атаки на быстрых аллюрах – не были забыты956; напротив, они были положены в основу обучения, и, развитые на более высоком уровне, составили специфику русской кавалерийской школы. Результатом петровских преобразований стал качественный прорыв, который заложил основы военного могущества Российской империи. Русская культура была выведена из Средневековья в парадигму Нового времени. С этого времени образ всадника в русской культуре неразрывно связан с имперской идеей.