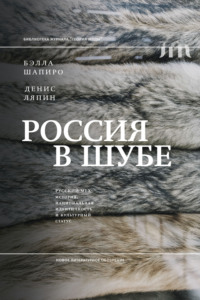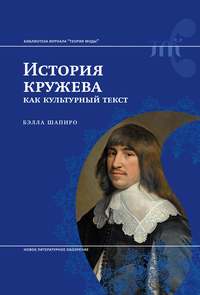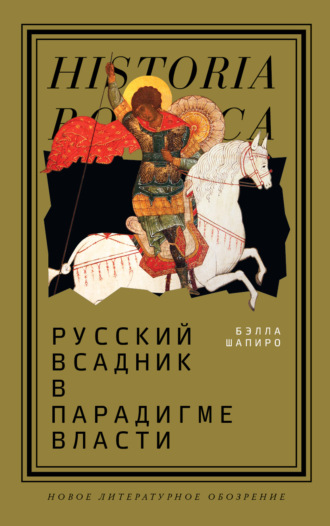
Полная версия
Русский всадник в парадигме власти
Это собрание значительно превосходило все более ранние библиотеки Романовых не только по объему. Треть содержания обеих описей составляют светские издания693. Среди уже привычной «духовной книжности», агиографической, исторической и поучительной литературы здесь имелись и издания, прежде не характерные для царских библиотек.
Одним из таких раритетов был русскоязычный перевод сочинения наставника Людовика XIII А. де Плювинеля «Maneige royal». Оригинальное издание увидело свет только спустя некоторое время после смерти автора (Плювинель умер в 1620 г.), но впоследствии, признанное классическим, оно выдержало несколько переизданий. Впервые труд был напечатан в Париже в 1623 г., затем, там же, в 1627, 1640 и 1660 гг.; в Амстердаме в 1666 г., во Франкфурте-на-Майне в 1640 г. и в Брауншвейге в 1653 г.694 Русскоязычный перевод был сделан в 1670 г. с брауншвейгского издания, где одновременно приводился французский и немецкий текст; перевод «с глаголами в конце предложений и с полонизмами, тяжелый, хотя и понятный»695 был сделан с немецкого. Он получил название «Книга лошадиного учения» (Королевская ездная школа господина А. де Плувинелла).
Книга была выполнена рукописным способом, полууставом696. Ее формат – большой «в десть», т. е. увеличенный «большой фолио»697, специально предназначенный для особенно роскошных изданий; объем – 216 листов. Альбом был проиллюстрирован гравированным портретом Людовика XIII от 1626 г., заглавным листом и гравюрами оригинала698 в виде изображений породных лошадей. Эти последние были гравированы с оригиналов работы художника Яна ван дер Страта (Страдануса); они, в свою очередь, были заимствованы из опубликованной в 1578 г. книги «Equile Joannis Austriaci Caroli V Imp. F»699. Оформлением списка стал переплет с позолотой700.
Судя по всему, роскошно оформленная «Книга лошадиного учения» была в числе «взнесенных в Верх»701, т. е. подаренных девятилетнему царевичу Федору Алексеевичу, который с детских лет не только увлекался верховой ездой, но и отдавал должное красоте породных коней.
И перевод, и оформление рукописи были выполнены силами Посольского приказа, чья художественная мастерская была ближайшим конкурентом Печатного двора по производству эксклюзивных рукописных изданий. Большая часть изданных Посольским приказом книг была светского содержания. Значительная группа изданий, выпущенных Посольским приказом во второй половине XVII в., предназначалась для обучения царских детей, преимущественно царевичей702. Так, сопровождалась аннотацией о значении сочинения «к выстроению подлинного рыцеря» и «Книга лошадиного учения» Плювинеля, подаренная царевичу Федору.
Полный текст аннотации имеет следующее содержание: «Королевская ездная школа господина Плувинелла королевского величества вышшего конюшева. В которой видети мочно и как деется о обыкновениях, каким способом кони к езде добре выучить, и все иные, которые к выстроению подлинного рыцеря надобны суть, все по обыкновению его школы»703. В Посольском приказе издавалась и другая переводная литература, популяризирующая западноевропейскую рыцарскую культуру. Это были серии рыцарских романов, которые в XVII столетии были весьма популярны и распространялись довольно широко704.
Наиболее эффектные, богато иллюстрированные издания, предназначенные преимущественно для нужд царского двора, выпускались Посольским приказом в 1670–1690‐х гг. В это время там работали самые искусные златописцы705, писцы, иконописцы, переводчики и переплетчики.
Книги «строились» в одном или в двух экземплярах; второй экземпляр, иногда оформленный несколько проще первого, поступал на хранение в приказную библиотеку. Таким образом копировались и те книги, что были изготовлены в качестве царских подарков; как и прочие, они переписывались и распространялись во множестве списков. По всей видимости, именно так появился «Вестеросский» список (из рукописного собрания гимназии шведского города Вестерос) с царской «Книги лошадиного учения». Список объемом в 128 страниц открывает объемный сборник706; текстологический анализ указывает на сходство этих двух списков.
Позднее книжное собрание Федора Алексеевича пополнилось еще одной русскоязычной версией сочинения Плювинеля707. Издание 1677 г. получило название «Учение како объезжати лошадей, се есть художество о яждении, умершаго господина Антониа де Плувинелла, королевскаго величества французскаго начальнаго конюшего, думнаго статскаго коморника и под-губернатора»708. Как и в 1670 г., оно было выполнено специалистами Посольского приказа специально для передачи в царскую библиотеку (как подносная царю). Заказ на ее изготовление исходил уже от самого царя Федора Алексеевича709. В XVII столетии пополнение книжных собраний путем переписки было традиционным; к нему прибегали все владельцы частных библиотек, поскольку книгопечатание не удовлетворяло спроса на книгу. Крупнейшим заказчиком рукописных книг был царский двор.
Над переводом основного текста в 1677 г. работали Ефим (Табис) Мейснер, Леонтий Гросс и Андрей Виниус. Перевод был сделан с немецкого языка; язык перевода – русский с церковнославянизмами. Семен Лаврецкий выполнил перевод с латинских стихотворных подписей под иллюстрациями (частично в стихах, частично прозой)710.
Перевод был оформлен в рукописную книгу объемом в 287 листов размером в десть, с золотом на месте киновари: «А переводов писал тое книгу уставом на меньшой александрийской бумаге в дестовую тетрадь на странице по 30 строк мелким уставом книгописец Лазарь Лазарев и написал тое книги 20 тетратей. Да он же писал в тое книгу клейма и заставицы золотом и краски, да болшие прописные слова фряские и меж статей прописные ж слова и речи прописывал золотом, да вкруг всего писма обводил линейками золотом»711. Как и в 1670 г., в издание 1677 г. были вклеены заглавный лист и гравюры оригинала из «Equile Joannis…» с подлинников Страдануса); вклейки размещались после основного текста. Переплет был бумажный с позолотой712.
Работа над книгой, которая задумывалась как подносная царю Федору Алексеевичу, велась между 9 марта и 11 ноября 1677 г.; первоначально предполагалось завершить ее создание к Троице – дню, особо почитаемому «лошадниками». Известно, что книгописец и переводчики получили за работу двойное награждение – в ноябре 1677 г. и в марте 1678 г.713, что, возможно, свидетельствует о выполнении ими копийного экземпляра для библиотеки Посольского приказа714.
Два рассмотренных перевода Плювинеля, 1670 и 1677 гг., открыли мир русскоязычной иппологической литературы.
Книжное собрание царственного лошадника после его смерти в 1682 г. было передано в библиотеки Софьи Алексеевны (откуда они вскоре поступили в Государеву Мастерскую палату) и Петра Алексеевича715. Но традиция собирательства книг, посвященных рыцарству, искусству верховой езды и коннозаводству, не прервалась, а развилась, приобретя новые формы.
В 1685 г. московская иппологическая библиотека пополнилась рукописным переводом польского издания 1647 г. «Hippika albo nauka о konjach» Кшиштофа Дорогостайского. Русскоязычный вариант «Гиппики» был выполнен «переводником» Посольского приказа С. Годзаловским (Гадзалонским). Текст под заголовком «О конех» сопровождался подзаголовком «ко благосердому воинскому читателю»716. В 1687 г. было издано переводное с польского языка руководство по коннозаводству в трех (по другим данным – в четырех) книгах. Среди материалов издания были тексты «о строении конского дому… для пригону и покою конскаго стада», «описание коней чужеземских» и раздел «о аптеке конской»717.
К концу XVII столетия мода на литературу «лошадиной» тематики вышла за пределы царского двора. «Книга конская» отмечена в библиотеке главы Посольского приказа А. С. Матвеева, владельца обширного и весьма разнопланового собрания. У В. В. Голицына имелся конский лечебник718, один из множества переводных и отечественных компилятивных сочинений, изданных на волне новой моды. Несомненно, что наиболее интересные иппологические издания принадлежали собранию царя Федора Алексеевича.
1.3.5. ЦАРЬ-ВСАДНИК. ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ РОМАНОВ
Несмотря на некоторые новые черты, присущие придворной культуре XVII столетия, понимание тесной связи всадника и коня, как первого и главного царского слуги, в русском сознании оставалось неизменным. Эта особенность наиболее специфическим образом сказалась в жизненном пути царя Федора Алексеевича – несмотря на череду биографов, одного из самых малоизученных правителей России719, для которого умение хорошо держаться в седле значило много больше, чем для остальных детей царя Алексея Михайловича. Из-за хронической болезни, которой с юных лет страдал царевич Федор, только «в седле он [был] хорош, легок, молодцеват, [тогда] исчезают вся тяжесть и неуклюжесть его походки, видны лишь юная сила да искусство управлять лошадью»720.
Сегодня о причинах этой болезни известно только со слов «великого государя ближнего боярина» А. С. Матвеева, записанных по кончине Алексея Михайловича в 1676 г.: «Федор, будучи по тринадцатому году, однажды сбирался в подгороды прогуливаться с своими тетками и сестрами в санях. Им подведена была ретивая лошадь: Федор сел на нее, хотя быть возницей у своих теток и сестер. На сани насело их так много, что лошадь не могла тронуться с места, но скакала в дыбы, сшибла с себя седока и сбила его под сани. Тут сани всею своею тяжестью проехали по спине лежавшего на земле Федора и измяли у него грудь, от чего он и теперь чувствует беспрерывную боль в груди и спине»721. Других свидетелей этого происшествия не было, и обыватели связали страсть царевича к лошадям с его недугом.
Современные исследователи называют причиной нездоровья царевича Федора не столько эту травму (да и была ли она?), сколько наследственное заболевание в виде хронического неусвоения витамина С, передавшееся сыновьям царя Алексея Михайловича и Марии Ильиничны Милославской722. Так или иначе, царевичевы «ношки»723 утратили подвижность, и теперь верховая езда давалась царевичу Федору много легче, чем ходьба. Предполагают724, что именно по этой причине он впервые показался своей невесте Агафье Грушецкой именно верхом, «едучи гулять в Воробьево нарочно мимо двора их, снова в окошке чердачном изволил видеть»725.
Как и прочие царские дети, Федор Алексеевич научился искусству верховой езды при дворе своего отца, где для малолетних царевичей и их лошадок мастерами Конюшенного приказа изготавливалось особое снаряжение под общим названием «недомерки»726. Несмотря на то что снаряжение ребенка-всадника и его миниатюрного коня имело и другое название – «потешное», в действительности оно ничем не отличалось от полноразмерных вещей, кроме габаритов. Первоначально такое снаряжение было только импортным и завозилось в Россию как диковинка. Со временем, когда употребление потешных вещей для обучения царских детей верховой езде стало традицией, было налажено и их местное производство727. У шестилетнего царевича Федора уже имелось специальное детское седло; сохранилась запись о том, что к седлу были вышиты серебром по бархату седельные тебеньки728.
Итак, верховая езда с самых ранних лет стала подлинной страстью царевича Федора, не раз оказавшей влияние на ход его жизни. Потешные деревянные лошадки со временем сменились потешными же, но настоящими, только малорослыми, лошадками; так, участник голландского посольства в Москву 1676 г. Б. Койэтт дважды упоминает о наличии на дворцовой конюшне миниатюрных лошадей ростом с английских догов, или чуть больше. «Четыре из [них] были запряжены в карету, карлик сел кучером на козлы, шесть человек сели внутри и, таким образом, несколько раз объехали вокруг двора, причем карлики, в роде парадных лакеев, бежали кругом», – писал он729. Лошади миниатюрных пород в Московии в это время уже не были новинкой: Павел Алеппский свидетельствовал, что еще двадцатью годами ранее путешественники «…удивлялись на обычаи их детей, на то, что они с малых лет ездят верхом на маленьких лошадках <…> так мы видели и удостоверились в этом после многих расспросов»730.
Известно, что уже в 1673 г., т. е. к всенародному объявлению царевича Федора, он владел собственной конюшней, на которой стояло 27 «потешных» лошадей731. В 1670–1677 гг., как отмечалось выше, Федор Алексеевич положил начало русскоязычной иппологической библиотеке.
Ему принадлежит еще одно нововведение в русской конной культуре, которое обычно остается без внимания (при довольно хорошо изученной реформе платья 22 октября 1680 г. в целом). Хорошо известно, что в 1680 г. царь Федор запретил ношение традиционного парадного костюма, поскольку «старые одежды были долги, прилично женскому платью, и к служилому и дорожному времени непотребны»732. Заменой морально устаревшим одеждам было избрано служилое платье, учитывающее нужды деятельного, прежде всего, ратного человека. Новый костюм должен был как можно меньше сковывать движения, что предопределило его меньшую длину.
Сходным образом изменился и внешний вид ездового кафтана – одежды, предназначенной для дороги, в том числе и для верховых выездов. Основу нового гардероба всадника составил укороченный кафтан с прямыми боковыми клиньями, сделанными «по-иному, чем у всех прочих; они вшиты вверху не в виде угла, а в виде сборок, расположенных по прямой растянутой линии»733. Кафтан нового покроя, подчеркивающий талию расходящимися от нее мягкими складками, «придавал фигуре стройность и молодцеватость»734.
В царском гардеробе было несколько таких кафтанов, обозначенных в документах как «кафтаны ездовые с прямым клиньем»: один из бархата лимонного цвета, другой из рудожелтого сукна и еще два из рудожелтой объяри (первый из простой объяри, второй – из гладкой; кафтан из гладкой объяри имел горностаевый подклад – «испод»). Еще один «кафтан ездовой теплый с прямым клиньем» был построен из сукна светло-брусничного цвета, утеплен собольими «пупками» и украшен запонами735. Все перечисленные одежды надевались Федором Алексеевичем в дороге к Троицкому богомолью в сентябре 1679 г.
Новые кафтаны «с прямым клиньем» были более функциональны и удобны, чем близкие им конструктивно кафтаны времен Алексея Михайловича. Декоративное решение верховой одежды в целом также стало более лаконичным: так, самый нарядный ездовой кафтан Федора Алексеевича описывался как «зарбаф золотный по нему кубы серебряные, нашивка образцы жемчужные с алмазы»736. Большинство других его ездовых одежд было оформлено намного проще; после изменения покроя и упрощения отделки верховые одежды царя и царского окружения приобрели сходство с аналогичным европейским (польским) костюмом.
Упростился и сам царский выезд. Говорили, что этот царь «величие свое заявляет не как иные монархи, толпою царедворцев, а больше всего роскошью одежд и красотою коней»737. Отныне внимание уделялось не только пышному конскому убранству, но и красоте породистых коней. Своим безупречным экстерьером, грациозными и изящными движениями эти благородные животные служили достойным оформлением царского выезда.
Общее восхищение дворцовым конным хозяйством разделяли и иностранцы, бывшие в Москве в годы правления царя Федора Алексеевича. Так, участник польского посольства Б. Таннер, бывший здесь в 1678 г., неоднократно отмечал выдающиеся стати лошадей царя и его свиты. Среди прочего путешественник особо выделял красоту царской лошади в ее полном уборе и конного отряда, высланного для встречи посольства, в том числе и тех «крылатых» всадников, которых он прозвал легионом ангелов738.
Особенно любопытно свидетельство уже упомянутого голландского посланника Койэтта, обратившего на царскую конюшню самое пристальное внимание. Хорошо известно его воспоминание об эффектном представлении, организованном для участников посольства «конного учения мастером» Т. С. Ростопчиным739: «шталмейстер [Ростопчин], – вспоминает Койэтт, – велел привести красивого серого жеребца (таковыми была большая часть их), который… услыхав, что ему стал говорить шталмейстер, начал проделывать разные фокусы, изгибал свое тело в странные дуги и курьезно прыгал то на 4‐х, то на 2‐х ногах. Он привел еще 3‐х других лошадей не менее интересных, чем первая, и, после ряда фокусов, поставил их крестообразно друг против друга; расставленные таким образом оне начали прыгать и скакать, как будто они танцовали и стремились превзойти друг друга в ловкости»740.
Затем Ростопчин «велел привести к себе белую лошадь средней величины, которая могла делать всевозможные фокусы. Захватив ее за уздцы, он, с острой лозою в руке, велел ей нагнуться. Лошадь так и сделала, и ударила головой об пол по Русскому обычаю; затем она легла на бок, точно спала, с конюхом, лежавшим у нее между ногами и положившим свою голову на ее голову. Коротко говоря, она оборачивалась и лежала, когда приказывал шталмейстер, так спокойно, что последний мог становиться на нее ногами. Она пошла так же, как собака, искать шапку, которую она принесла шталмейстеру. Она на передних ногах приподнялась у стены, и тогда конюх вскочил ей на спину, как мальчишки в известной игре прыгают друг другу на спину. Другой конюх захватил передние ноги этой лошади, положил их себе на плечи и лошадь пошла затем на задних ногах, подобно тому, как иногда мальчики делают с собаками, которых берут за передние ноги, заставляя их идти за ними на задних ногах»741. Отмечает посланник и другие трюки, которым были обучены царские лошади: подъем и спуск по ступеням и т. д.742
Это описание относится ко времени, когда царские конюшни находились на попечении ясельничего Ф. Я. Вышеславцева; появление значительных успехов в искусстве выучки связывают с деятельностью Вышеславцева как главы Конюшенного приказа (1670–1676). Ранее обучением царских лошадей занимался ясельничий И. А. Желябужский (1664–1668), также преуспевший в этом деле743.
Были у Федора Алексеевича и другие единомышленники, поскольку, как отмечал В. Н. Татищев, «сей государь до лошадей был великой охотник и не токмо предорогих и дивных лошадей в своей конюшне содержал, разным поступкам оных обучал и великие заводы конские по удобным местам завел, но и шляхетство к тому возбуждал. Чрез что в его время всяк наиболее о том прилежал, и ничем более, как лошедьми хвалился»744. В истории, кроме уже названных Вышеславцева, Желябужского и царского конюха Ростопчина (бывшего стремянного конюха боярина И. Д. Милославского, перешедшего на царскую службу745), остались имена Т. Е. Поскочина, берейтора государевой конюшни («при конюшне его величества славный берейтор и в великой милости был Тарас Елисеев сын Поскочин»746); И. Т. Кондырева, потомственного коневода, в 1676 г. поставленного царем во главе Конюшенного приказа; князя В. Д. Долгорукого, одного из лучших в Московии знатоков лошадей, вложившего свое состояние в конные заводы747.
Деятельность Долгорукого, не раз поддерживавшего царя Федора Алексеевича в его начинаниях, особенно важна для понимания поступков монарха. Известно, что царь-лошадник с трепетом подходил к подбору «своих великого государя лошадей»748, отбирая лучшие экземпляры из возможных. Как одержимый коллекционер, несмотря на приложенные усилия, он считал, что государевы конюшни было недостаточно хороши и разнообразны. Не удовлетворяясь покупкой иностранных образцов, понимая необходимость массового улучшения местных лошадей, царь-лощадник устроил на месте уже существующих «кобылячьих конюшен» первые государственные конные заводы, сменив естественное разведение искусственным подбором749. Одним из первых стал конезавод в дворцовом селе Броничи (Бронницы), основанный вблизи обширных пойменных лугов «государевой кобылячьей конюшни»750.
Работу по совершенствованию поголовья и увеличению породного разнообразия «своих великого государя лошадей»751 царь Федор Алексеевич вел все шесть лет своего правления, применяя всевозможные способы. Так, достоверно известно, что в 1676 г. царь выменял понравившегося ему белого жеребца, принадлежащего послу Генеральных штатов Нидерландов К. ван Кленку752. Вероятно, именно на царскую конюшню поступила после конфискации имущества опального А. С. Матвеева в том же 1676 г. верховая лошадь, подаренная боярину годом ранее послами Священной Римской империи753. Лошадь была прекрасно выезжена императорскими берейторами и, безусловно, была достойна занять место в конюшне царя-лошадника.
В 1679 г. царь лично поручил шведскому купцу и дипломату Т. Книперу (Книпперу) привезти дюжину немецких лошадей «на Аргамачью конюшню и на запасной двор»754. Книпер занимался поставкой европейских лошадей в Московию и позднее; только в феврале 1682 г. он ввез в Россию полсотни голов. Три из них, в том числе два жеребенка по цене 40 р., поступили на царскую конюшню, семь – на царскую запасную конюшню; остальных раскупили приближенные царя.
Апогеем царской «конемании» стал сезон 1680–1681 гг., когда Федор Алексеевич приобрел турского аргамака за немыслимые по ценам того времени 150 р.755 Чтобы сегодня оценить размах царского «шопинга», можно привести стоимость покупки в 1667 г. гостем С. Гавриловым для конюшни Алексея Михайловича шести роскошных лошадей за 675 р.756 Первоклассные лошади со сказочно богатой, по словам современников, конюшни И. М. Языкова, первого боярина и царского фаворита, в 1682 г. были проданы по 100 р. каждая. Лучшая лошадь со двора боярина К. П. Нарышкина стоила не более 50 р.757 Лошади, привезенные Книпером для царедворцев в феврале того же года, стоили:
1) проданные боярину П. М. Салтыкову – семь лошадей общей стоимостью 470 р.,
2) боярину М. Л. Плещееву – две лошади за 116 р.,
3) боярину и князю П. И. Прозоровскому – две за 110 р.,
4) боярину и князю М. А. Черкасскому – одна за 80 р.,
5) боярину и князю П. С. Урусову – три за 200 р.,
6) боярину К. П. Нарышкину и боярину и князю Т. Т. Ромодановскому – два за 150 р. каждому758.
Еще одну крупную партию из 44 «немецких» лошадей доставил в Московию любекский купец З. Инаверсен в январе 1682 г.; позже Федор Алексеевич послал конюха А. Рукина к Инаверсену для покупки лошадей для царской ахтамачьей конюшни759. Уже тогда царь был серьезно болен (что известно, например, по характеру брачной церемонии 15 февраля 1682 г., когда он венчался с Марфой Матвеевной Апраксиной, не поднимаясь из кресла760. Царь уже «не мог ездить на… лошадях, но имея великую к ним охоту, непрестанно смотрел и пред очьми имел»761.
* * *Можно с уверенностью предположить, что поручения 1682 г. стали последними заказами на покупку иноземных породистых лошадей, сделанными во время правления царя Федора Алексеевича. По окончании этого царствования развитие русской конной культуры продолжилось. Безусловно, на ход этого процесса повлияли как личные пристрастия Федора, так и обстоятельства его жизни. Несмотря на это, представленный материал полностью исключает возможность рассмотрения начинаний Федора Алексеевича как ограниченных масштабом его личности, имеющих преимущественно местное (придворное) значение. Напротив, именно они подготовили последующие, хорошо известные, изменения русского быта.
Итак, в русской культуре позднего Средневековья диада «конь – всадник», взятая в национально-государственном контексте, осмысливается прежде всего во взаимосвязанных мифологической и царской парадигмах. Универсальный символический образ конного героя, помещенный в пространство царской власти, трансформируется в культурный символ царя-всадника, сохраняя все базовые характеристики, изначально присущие символическому героизированному образу (прежде всего дуальность).
В Московии XVI–XVII вв. церемониал царского парадного конного выезда уже сформирован; особый язык ритуалов и символов царской власти, используемый в нем, определен и обозначен. Конь, как животное с древней мифо-ритуальной историей, в русской средневековой придворной культуре (где наблюдается крайне сильное смешение двух функций коня – утилитарной и ритуальной) был довольно широко вовлечен в эту сферу. В этих условиях конный выезд становится важнейшим средством выстраивания образов царской власти. Дорогие породистые кони – символические спутники солярного божества – и их драгоценное убранство, с его сложной символической системой декора, способствовали формированию образа русского царя как могущественного богоизбранного властителя.
Единение коня и его царственного всадника подчеркивалось целостностью художественного оформления их парадно-сакрального убранства. Вещный мир всадника был призван подчеркивать своим великолепием величие образа; значение царского выезда предопределило роскошь его убранства. Образ царя-всадника стал значимой составляющей московской культуры «государственного устроения». В итоге в русском средневековом сознании конь связывался с фигурой царя в трех контекстах – трех ипостасях, которые соединялись только в лице могущественного властителя, «повелителя и царя над многими странами»762. Конный образ стал символом тесной связи с сакральным, символом сильной державной власти и символом воинской доблести.