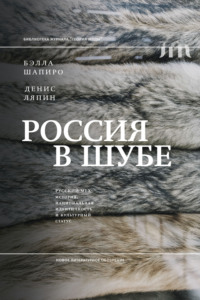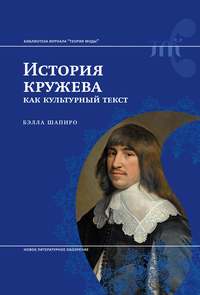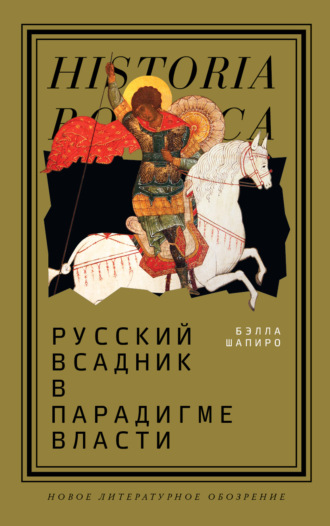
Полная версия
Русский всадник в парадигме власти
Среди имущества Никона Волкова, свояка княжны Марьи Вяземской, близкой к кругу Натальи Алексеевны (сестры Петра I, умершей в 1716 г.), отмечены книжка о брадобритии, а также «бумашки с мушками»1041, косметическими средствами, которые по праву можно назвать аксессуаром – «лицом эпохи».
Буквально утопал в пене кружев князь С. П. Долгоруков, в гардеробе которого отмечены многочисленные кружевные домашние уборы, а также тонкие полотняные сорочки с кружевными манжетами и кружевные галстуки, в числе которых «один с кистьми жемчужными»1042. Согласно моде, жемчужные концы таких галстуков намеренно выпускали поверх камзола на всеобщее обозрение. По новой моде камзол даже военного мундира застегивался минимально, чтобы продемонстрировать изысканную рубашку из тонкого полотна; случалось, что и камзол, и кафтан носили нараспашку. Любовь к мужскому красивому белью перешла все разумные границы.
Именно в петровское правление влияние мундира на становление форм партикулярного костюма максимально велико. Появляются первые форменные регламенты – описания образцовых вещей, правила ношения и пригонки обмундирования и амуниции. Мундир получает значение актуальной мужской одежды, эстетика которой наилучшим образом соответствует как военным регламентам, так и придворному этикету.
Придворный в мундире сочетал в себе две самые эффектные ипостаси столетия – галанта и воина. В результате главным потребителем товаров, которые прежде предназначались для усиления женской привлекательности, – тонких тканей нежных и ярких оттенков, кружева, накладных волос и других специфических аксессуаров – становится военная знать.
Феминная манера одеваться, смесь любви к изысканному с «обыденной реакцией на грубую реальность войны»1043 стала образцом для мужской моды XVIII в., времени, насыщенного «войнами в кружевах», как никакое другое. Говорили, что согласно этикету периода «Великих войн», обыденными были «кружевные перемирия» – с тем, чтобы воюющие стороны могли привести в порядок свой гардероб: «постирать свои кружевные воротники и манжеты, а потом просушить их, развесив на прикладах мушкетов»1044.
Оформление нового типа придворного наблюдается уже при дворе Екатерины I. Характерная фигура этого времени – галант императрицы В. И. Монс – брат фаворитки Петра I, «генеральс-адъютант от кавалерии», герой Северной войны (сражения при Лесной, Полтавская битва), бывший с двадцати лет на военной службе. Военные успехи не препятствовали карьере галанта; в этом качестве Монс владел обширным изящным и весьма оригинальным гардеробом, уделял много внимания своему внешнему виду и светским манерам. Этот «бело-розовый… женственно-красивый камергер… знаменовал собой появление в России нового культурно-исторического типа военного-придворного, – отмечал исследователь русской куртуазной культуры XVIII в. Л. И. Бердников. – Его повышенный интерес к дамам, внимание к собственной внешности, изысканные манеры и куртуазное поведение… станут характерными чертами щеголя-петиметра, укоренившегося у нас к середине XVIII века»1045.
Весьма красноречива опись имущества В. И. Монса от 1723–1724 гг. Согласно этому документу, ему принадлежали разнообразные, но всякий раз изысканные камзолы и кафтаны (штучные, т. е. отдельные предметы, а также пары «кафтан + камзол» и полные комплекты, включающие штаны), в том числе роскошный «кафтан кофейный галанской фондишпании»1046.
Интересно внимание, которое отдавал Монс той традиционно мужской сфере деятельности, где дорогие породистые кони и их драгоценное убранство выступали как атрибуты власти, а «в умении управлять конем видели способность властвовать»1047. Судя по описи имущества, одежда этого «бело-розового херувима»1048 в лучших традициях русской всаднической культуры составляла комплект с конским убранством: конское убранство соответствовало убранству и достоинству ездока1049, подчеркивая их единство.
Так, составляют идеальную пару «кафтан красный насыпной, камзол и на кафтане обшлага штофные серебряные по зеленой земле» из гардероба Монса и «чепрак и чушки красные с серебряным позументом и с кистями»; текстильное конское убранство, расшитое серебром, дополнялось серебряными же снастями «мундштук да уздечка с набором серебряным… цепочка серебряная под персидский мундштук»1050. Кроме того, отмечены:
– гарусные и шелковые чулки разных цветов (2 дюжины), преимущественно красные (6 пар) и пунцовые (8 пар), украшенные серебряной и золотой расшивкой и отдельные нашивки, приготовленные для отделки таких чулок;
– золотые и серебряные пряжки и подвязки с такими пряжками для чулок;
– белые волосы для париков;
– несколько десятков алмазных (50 шт.) и золотых (4 портища) пуговиц;
– шелковые рубашки и кружевные манжеты к ним;
– кружево, предназначенное для отделки шляп1051.
Здесь также числились туфли с изображением Христа, жемчуга, синий и фиалковый парики1052.
Идеи Монса относительно актуальных направлений в мужской придворной моде были поддержаны другими фаворитами императрицы – П. И. Сапегой и А. М. Девиером.
В правление Петра II вектор развития моды оставался прежним. Тональность задавал император, который сам имел сильную склонность к франтовству: в его гардеробе находились многочисленные парчовые и бархатные расшитые золотом кафтаны, роскошная домашняя одежда, шелковые чулки с золотыми и серебряными стрелками и неизменный Point d’ Espagne1053. «Визитной карточкой» императора Петра II называли «французские» обшлага1054. Другим его «достижением» в этой области можно считать введение моды на мужские косы и пудру, что определило направление развития мужской куафюры вплоть до конца столетия.
При Анне Иоанновне придворная мода приняла несколько новый вид: теперь щегольство насаждалось сверху, порой принимая чудовищные формы. Так, известно настойчивое желание императрицы видеть своих придворных всякий раз в новом платье1055. Именно в это время западноевропейская мода оформилась как самоценное явление1056 и феномен русской культуры, впервые зафиксированный в русском языке и печатном слове в словаре Э. Вейсмана (1731)1057.
Известными модниками аннинского двора считались Э. И. Бирон, Б. К. Миних и Р. Г. Левенвольде; последний «настаивал на том, что одежда мужчины должна быть обшита чистым золотом»1058; одежда дополнялась шляпой с золотым кружевом, едва покрывавшей высокий напудренный тупей, и башмаками на высоких красных каблуках. Другую точку зрения на моду представлял Бирон: согласно ему, костюм вельможи выполнялся в нежных пастельных тонах. Сам Бирон «пять или шесть лет сряду ходил в испещренных женских штофах»1059, желая утонченности и изысканности, в чем ему помогал не только особый гардероб, но и «многочисленные туалетные принадлежности: изысканные столики, наборы ножниц, щеточек, гребенок, зеркал; герцогские зубочистки были из чистого золота»1060.
В итоге именно Левенвольде пользовался репутацией законодателя мод; остальные пытались подражать первым щеголям двора, присоединяясь к той или иной позиции. Среди эпигонов Левенвольде прежде всего нужно назвать сына полководца П. Б. Шереметева, чьи одежды, по словам современников, «наносили ему тягость от злата и серебра, и ослепляли блистанием очи»1061
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф – имя – культура // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992. С. 58.
2
Думова Н. Г. Либерал в России: трагедия несовместимости. М., 1993. С. 140.
3
Кондаков И. В. Культура России: краткий очерк истории и теории. М., 1999. С. 199; Яковенко И. Г. Прошлое и настоящее России: имперский идеал и национальный интерес // Полис. Политические исследования. 1997. № 4. С. 88–96.
4
Кондаков И. В. Культура России… С. 201.
5
Мароши В. В. Тройка как символ исторического пути России в русской литературе ХХ века // Филология и культура. 2015. № 2 (40). С. 204–209; Сазонова Л. И. Русь – птица-тройка Гоголя: сакральные основания национальной мифологемы и ее отражения в литературе // Сазонова Л. И. Память культуры. Наследие Средневековья и барокко в русской литературе Нового времени. ИМЛИ РАН. М., 2012. С. 249–292.
6
Гоголь Н. В. Мертвые души. Цит. по: Сазонова Л. И. Русь – птица-тройка Гоголя… С. 260.
7
Андроников И. Л. Четырнадцать русских «Троек» // Андроников И. Л. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1981. С. 105.
8
Сазонова Л. И. Русь – птица-тройка Гоголя… С. 256, 272–276.
9
Гус М. С. Гоголь и николаевская Россия. М., 1957. С. 139; Роговер Е. С. Русская литература первой половины XIX века. СПб., 2004. С. 363.
10
Кара-Мурза А. А. Поэма «Медный всадник» А. С. Пушкина: политико-философские проекции // Философский журнал. 2016. Т. 9. № 2. С. 54; Сазонова Л. И. Русь – птица-тройка Гоголя… С. 276–277.
11
Сокурова О. Б. Георгий Победоносец и «Медный всадник» как архетипы русской исторической судьбы // Труды СПбГИК. 2009. Т. 185. С. 54; Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. М., 2000. С. 206.
12
Сокурова О. Б. Размышления А. С. Пушкина об исторической судьбе России в поэме «Медный всадник» // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2009. № 2. С. 297.
13
Большинство упомянутых исследований получили свое библиографическое описание в списке источников и литературы.
14
Murray A. All the Kings’ Horses: Royalty and their Equestrian Passions from 1066 to the Present Day. London, 2006. 304 р.; Raber K., Tucker T. The Culture of the Horse: Status, Discipline, and Identity in the Early Modern World. New York, 2016. 371 р.; The Horse as Cultural Icon. Leiden, 2011. 410 р.
15
Николаев П. В. Парсуны всадников конца XVII в. Проблема атрибуции // Наука и школа. 2011. № 4. С. 123–128.
16
Флиер А. Я. Культурная форма как предмет познания // Вестник СВФУ. Серия «Экономика. Социология. Культурология». 2016. № 4 (04). С. 45–51.
17
Ахиезер А. С. Сфера между и ее осмысление // Общественные науки и современность. 2009. № 5. С. 125–133; Кондаков И. В. Культурогенез исторических поворотов // Лики культуры в эпоху социальных перемен. Материалы Всероссийской с международным участием научной конференции. Екатеринбург, 2018. С. 13–16.
18
Кондаков И. В. Культура России… С. 73.
19
Флиер А. Я. История как культура и культура как история // Знание. Понимание. Умение. 2015. № 4. С. 30; Юрганов А. Л. Культурная история России как проблема // Вестник РГГУ. Серия «История. Филология. Культурология. Востоковедение». 2016. № 7 (16). С. 17.
20
Флиер А. Я. Культурная атрибуция как метод исследования // Вестник МГУКИ. 2015. № 6 (68). С. 24–30; Флиер А. Я. Культурная атрибуция как метод исследования // Знание. Понимание. Умение. 2011. № 4. С. 139–144.
21
Кондаков И. В. Архитектоника культуры как метод исторической культурологии (на примере России) // Мир культуры и культурология. СПб., 2012. С. 147, 149.
22
Шмидт С. О. Современные проблемы источниковедения // Источниковедение: Теоретические и методические проблемы: сборник статей. М., 1969. С. 46.
23
Лотман Ю. М. Символ в системе культуры // Лотман Ю. М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и топологии культуры. Таллин, 1992. С. 191; Флиер А. Я. Культурная форма как предмет познания. С. 49; Флиер А. Я. О природе культурного символа // Вестник МГУКИ. 2016. № 1 (69). С. 51–57.
24
Русский музей представляет: Лошади в русском искусстве. Альманах. Вып. 12. СПб., 2001. С. 10.
25
Чежина Ю. И. История лошади: интерпретация античной идеи в конном монументе Петру I работы Б.-К. Растрелли // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2015. № 5. С. 513.
26
Кондаков И. В. Ю. М. Лотман как культуролог (в эпицентре «большой структуры») // Юрий Михайлович Лотман. М., 2009. С. 238.
27
Каравашкин А. В., Юрганов А. Л. Регион Докса. Источниковедение культуры. М., 2005. С. 53–56; Кондаков И. В. Культурогенез исторических поворотов. С. 16; Флиер А. Я. Культурогенез в истории культуры // Общественные науки и современность. 1995. № 3. С. 140.
28
Кузьмина Е. Е. Кони степей Евразии в эпоху энеолита и бронзы // Кони, колесницы и колесничие степей Евразии. Екатеринбург; Самара; Донецк, 2010. С. 5–6.
29
Ковалевская В. Б. Конь и всадник. Пути и судьбы // АН СССР, Ин-т востоковедения. М., 1977. С. 19.
30
Шапиро Б. Л. Конь и всадник в мифах и образах русской культуры // Альманах НОКО России «Мир культуры и культурология». Вып. VI. СПб., 2018. С. 209–215.
31
Шапиро Б. Л. Реликты славянского культа коня в погребальном обряде государского чина по московскому обычаю // Клио. 2016. № 7 (115). С. 134.
32
Соболев А. Н. Балканский культ всадника и принцип множественности // Laurea Lorae. Сб. памяти Л. Г. Степановой. СПб., 2011. С. 597.
33
Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или Интертекст в мире текстов. С. 206.
34
Мусин А. Е. Milites Christi Древней Руси. Воинская культура русского Средневековья в контексте религиозного менталитета. СПб., 2005. С. 189.
35
Седова М. В. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X–XV вв.). М., 1981. С. 66.
36
Бузыкина Ю. Н., Трубицын К. В. Всадники на русских иконах. Можно ли доверять древним образцам? // Батыр. Традиционная военная культура народов Евразии. 2012. № 1–2 (4–5). С. 83; Трубицын К. В. Как новгородцы коня снаряжали // Родина. 2009. № 9. С. 87.
37
Согласно византийской иконографической традиции, лица царского рода могли изображаться с нимбами.
38
Королёв Г. И. Всадник в европейской сфрагистике, нумизматике и геральдике // Труды Историко-архивного института. Т. 34. Сб. ст. геральдического семинара ИАИ РГГУ. Вып. 1. М., 2000. С. 40–41.
39
Так, св. Димитрий Солунский покровительствовал семье князя Изяслава Ярославича (в крещении Димитрия) и князю Дмитрию Донскому. См.: Саенкова Е. М., Герасименко Н. В. Иконы святых воинов. Образы небесных защитников в византийском, балканском и древнерусском искусстве. М., 2008. С. 63. Образ святого всадника-покровителя был преемственным, и переходил от отца к сыну с передачей власти. См.: Королев Г. И. Всадник в европейской сфрагистике, нумизматике и геральдике. С. 41. В мифологии кони героев могли наследоваться от отца к сыну (типично). См.: Багдасаров Р. В. Символика вымышленного коня в русской традиционной культуре // Россия и гнозис: Материалы конференции, 24–25 марта 1998. М., 1999. С. 32.
40
Св. Георгий на иконах обозначается как воин без бороды и усов, в красном плаще, на белом коне; у Димитрия – зеленый плащ и вороной конь. См.: Кочетков И. А. К истолкованию иконы «Церковь воинствующая» («Благословенно воинство небесного царя») // ТОДЛР. Т. 38: Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства. Л., 1985. С. 188. Вороной конь в русской мифологии обозначал удаль, белый – величие. См.: Багдасаров Р. В. Символика вымышленного коня… С. 24.
41
Андреев И. Л. Образ шествующей власти. Первые Романовы в церковных и придворных церемониях // Образы власти на Западе, в Византии и на Руси: Средние века. Новое время. М., 2008. С. 224–225.
42
Которые, в свою очередь, унаследовали античную иконографию. В Византии понятие «небесное воинство» оформилось с конца IX в. См.: White M. Military Saintsin Byzantium and Rus, 900–1200. Cambridge, 2013. P. 94.
43
В рамках дружинной культуры. См.: Мусин А. Е. Milites Christi Древней Руси… С. 187–188.
44
Согласно Збручскому Святовиту IX в. См.: Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. М., 1987. С. 243.
45
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника и верхового коня на Руси IX–XIII вв. // Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е1–36. Л., 1973. С. 10.
46
Михайлов К. А. К вопросу о формировании всаднической субкультуры в Древней Руси // Новгород и Новгородская земля. История и археология. Вып. 8. Новгород, 1994. С. 93–103.
47
Кирпичников А. Н. Снаряжение всадника… С. 86; Королёв Г. И. Всадник в европейской сфрагистике… С. 35.
48
Мельникова А. С. Место монет Ивана Грозного в ряду памятников идеологии самодержавной власти // Из истории русской культуры. Т. 2. Кн. 1. Киевская и Московская Русь. М., 2002. С. 613.
49
Образ святого воина происходит из образа мученика, посредника между богом и молящимся.
50
Этот перечень не был постоянным. В первой половине XVI в. предпочтение отдавалось Георгию, Димитрию, Никите, Мине, Феодору Стратилату (почитание которого начало преобладать над почитанием Феодора Тирона). К концу XVII – началу XVIII в. формируется новый ряд. См.: Саенкова Е. М., Герасименко Н. В. Иконы святых воинов… С. 27, 31.
51
Размер картины 396 × 144 см (в настоящее время в собрании ГТГ).
52
Некоторые исследователи видели св. Георгия в фигуре юного конного воина. См.: Мельникова А. С. Место монет Ивана Грозного в ряду памятников идеологии самодержавной власти. С. 614.
53
Кочетков И. А. К истолкованию иконы «Церковь воинствующая». С. 190.
54
Страхи мифологического характера были обусловлены ожиданиями конца света в 1492 г. (по истечении 7000 г. по византийскому календарю); так, например, против этой даты в одном из текстов были пометы «Зде страх! Зде скорбь!». См.: Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. М., 1998. С. 306.
55
Щеглова Л. В., Саенко Н. Р. Образ благородного всадника: культурные модели. М., 2010. С. 64. Внутри древнерусской дружинной культуры можно выделить различные по локализации субкультуры. Так, змеевики с образом Михаила Архангела чаще встречаются в Новгороде, для Киевской Руси более характерны изображения св. Георгия. См.: Мусин А. Е. Milites Christi Древней Руси… С. 198.
56
Не только в московской, но и во вселенской традиции. См.: Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ // Из истории русской культуры. Т. 3. XVII – начало XVIII века. М., 1996. С. 23.
57
Символика белого коня отразилась не только в древнерусской иконографии, но и в ее обрядности, например в «шествии на осляти».
58
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1865. С. 96.
59
Фаминцын А. С. Божества древних славян. СПб., 1884. С. 206.
60
Другим ключевым моментом стало введение в круг «византийских» святых воинов национальных русских святых Бориса и Глеба. Именно к ним обращались в важных военных предприятиях, например перед взятием Казани. См.: Лазарев В. Н. Новый памятник станковой живописи XII в. и образ Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве // Византийский временник. 1953. № 6. С. 212; Саенкова Е. М., Герасименко Н. В. Иконы святых воинов… С. 244; White M. Military Saints in Byzantium and Rus, 900–1200. P. 132.
61
Юрганов А. Л. Опричнина и страшный суд // Отечественная история. 1997. № 3. С. 53.
62
У славян конь выступает как спутник Перуна, Хорса и особенно Дажьбога, словами Ипатьевской летописи, «Солнце цесаря, сына Сварогова, еже есть Дажьбог, бе муж силен». См.: Бонгард-Левин Г. М., Грантовский Э. А. Скифы и славяне: мифологические параллели // Древности славян и Руси. М., 1988. С. 112.
63
Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. С. 593.
64
Таннер Б. Описание путешествия польского посольства в Москву в 1678 г. // ЧОИДР. 1891. № 3. С. 52. Б. Таннер был в составе польско-литовского посольства Михаила Сапеги и Казимира Чарторыйского в 1678 г.
65
Юрганов А. Л. Категории русской средневековой культуры. С. 338.
66
Шапиро Б. Л. Страшный суд Ивана Грозного: конь как ритуал и символ // Альманах НОКО России «Мир культуры и культурология». Вып. V. СПб., 2016. С. 110–116.
67
Все свидетельства бытования обряда (секретарь австрийского посольства И. X. Гвариента И. Корб называет его «благословлением реки») относятся к третьей четверти XVI в. Позднее, по словам Корба, лошади участвовали в обряде в другой роли: шесть белых лошадей привозили «сосуд, напоминавший своей фигурой саркофаг. В этом сосуде надлежало затем отвезти благословленную воду в дворец его Царского Величества». См.: Акельев Е. В. Дневник путешествия в Московию (1698 и 1699 гг.). СПб., 1906. С. 111–113.
68
Лошади пили из «московской Иордани», которая устраивалась на этом месте до начала XVIII в. Выходом государя к Иордани завершался крестный ход в день Богоявления и в другие крупные церковные праздники. См.: Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях. М., 2014. С. 455.
69
Ченслер Р. Известия англичан о России во второй половине XVI века // ЧОИДР. 1884. № 4. С. 18.
70
Дженкинсон А. Путешествие из Лондона в Москву 1557–1558 гг. // Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. М., 1937. С. 78.
71
Флетчер Дж. О государстве русском, или образ правления русского царя. СПб., 1906. С. 116.
72
См.: Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским. Цит. по: Ахиезер А. С. Циклизм ценностных основ российской власти: от Ивана IV до конца советского этапа // Россия и современный мир. 2003. № 3 (40). С. 31.
73
Зимин А. А. О политической доктрине Иосифа Волоцкого // ТОДРЛ. М.; Л., 1953. Т. 9. С. 177. Цит. по: Черная Л. А. Антропологический код древнерусской культуры. М., 2008. С. 272.
74
На сегодня сочинения А. Гваньини, созданные в первой половине 1570‐х гг., имеют репутацию добротных компиляций, однако «безымянный литератор пушкинского времени так представлял Гваньини русскому читателю: „Среди шума военного занимаясь науками, он написал… весьма важную книгу о нашем отечестве… о естественном и гражданском состоянии России“». См.: Козлова Г. Г. Александр Гваньини и его сочинения // Гваньини А. Описание Московии. М., 1997. С. 6.