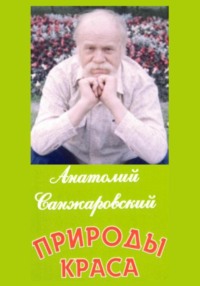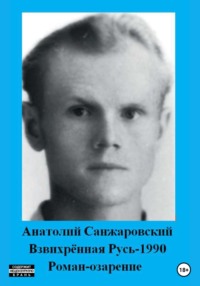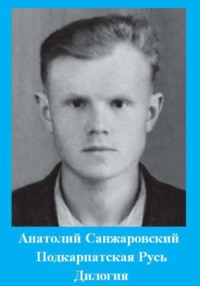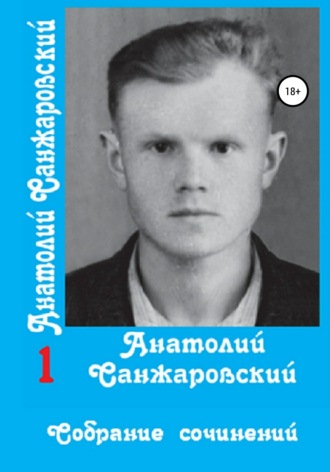 полная версия
полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый
– Жадовитый был. До чего жадовался… Мука у него в камень слежалась!
– Дуроумный чудород, – плеснула Луша приговор и вяло махнула рукой. – Нашла об чём тереть слова.
– Ну, Луша, поговорила с тобой – мёду напилась. Отмякла душенька моя… Хорошо… В душе свет такой… Будто Христос прошёл… Днями нагрянут и мои внуки. Будет с кем твоим поскакать… Да и сама, затворница, заходи чайку лизнуть. Знаешь, как двери мои открываются.
– А не то ль повзабыла! Вечерком, ближе туда к огням, загляну…
31
Сердце не лукошко,
не прошибёшь окошко.
От Лукерьи, с кем вожу я короткую дружбу с коих-то пор, не с детских ли ногтей, правлюсь я к себе к домку.
Иду себе да иду и подмечаю, что пошла я не прямушкой, не ближней дорогой, а взяла кружью, подалей как. Стосковалась бабка по своему по Жёлтому в больнице. Потянуло свидеться с ним, исходить своими ноженьками если не всё, так больший клок. Хоть одним глазком глянуть, ну как тут оно без меня…
Путешествие по селу, где увидала свет и в пепел изжила свои богатые, долгие годы, странствие по селу, разлука с которым к тому ж долгохонько таки томила, изводила тебя, – дело для души и тяжкое и светозарное.
Тяжкое оттого, что сознаёшь, что этого путешествия могло уже и не быть, а в лучшем случае сидела б ты без сил под окном и всего-то тебе свету толенько и было, что в окне, всё б и было твоё царствие, что видать поблиз окна, а всё то, что за поворотом улицы, – навсегда от тебя отсечено, потому как туда ты уже ни под каким видом не уловчишься дойти, раз ноги не держат, и всё то, что деется там, теперь деется помимо твоей воли, там ты больше ни хозяин, ни гость, ни даже просто прохожий; тяжкое ещё и оттого, что всемучительно ясно вдруг чувствуешь, что круг замкнулся, колесо твоей жизни сделало положенный тебе полный оборот, и теперь ты с опаской щупаешь палкой стёжку, тащишься уже по колее детства…
Природа уравняла в цене и старого и малого.
Припоминаю, доверху радости было, как выскочишь тогда, в детстве, в таком далёком за годами и в каком-то призрачном, вроде его вовсе и не бывало, вылетишь мигом, как чёрт из-под кочки, на угол улицы, куда прежде не занашивали ноги – всё внове, всё восторг, всё загадка, всё вопрос, толпа вопросов…
Та же светозарная радость одолевает меня и сейчас, когда каждое коленце сонной, кроткой древней и чем-то всегда обновлённой улоньки сводит меня с давностными друзьями: людьми, домами, деревьями, колодцами, с цветущей под окнами сиренью, цветущей богато, так что крепкий её дух кружит голову.
С нашим удовольствием вышагиваю я тихо по Жёлтому.
Так оно, верно, называется оттого, что стоит на возвышенке в виде опрокинутой тарелки. И куда ты ни пусти шаг, скоро скажешься у глинистого жёлтого обрыва, что омывается то ли речкой Сакмарой, то ли речонкой Чертанкой.
Вышагиваю я по Жёлтому. В торжестве и в удивленье забегаю глазами и туда, и туда, и туда. И всюду, решительно всюду – там, там и там – натыкаюсь на пуховниц со спицами. В каждой же избёнушке работают платки!
За зиму зимнюю изголодался люд по солнечному теплу.
Теперь, в воскресный майский полдень, в самый распал тепла, не усидеть дома и одной живой душе.
Завалинки, порожки, крылечки будто кто густо усыпал бабьём. Тут тебе и маленькие. Тут тебе и давненькие. Красна солнышка всем вдосталь.
Посиживают да вяжут.
Тихостно роняют слова иль вовсе молчат.
Это уже где какой клубочек свился.
А не всяка спешит в артель-братию.
Оно в отраду побыть и одной за спицами.
Поразмышлять о бытье-житье…
Я вижу, за тальниковым плетнём на верёвке сохнут картинно широкие с колокольчиками брюки.
Конопатая молодица в выгорелом ситцевом платьишке, не скажу как в коротком – в таком только от долгов и убегать – с недлинными волосами, что собрала на затылке под чёрной резинкой в дульку, прямо на ступеньках оседлала перевёрнутый тазик. Вяжет.
Рядом, в шаге каком от неё, пристыла гусыня со своими люлятами.[292] Важно смотрит, как девча вяжет.
Девчонишка мне знакомая. На возрасте уже. Из техникума на выходной объявилась… Я знаю всех жёлтинских подлетков, хоть бабы, как из мешка, в каждом дворе понасыпали ребятни.
Не она ль хозяйка тех городских доспехов, что на верёвке?
Пожалуй, она…
Попав моде в струну, может, ещё вчера в компании таких же, как и сама, положив на себя с кило косметики, подметала оренбургские тротуары расклешёнными с самого бедра штанчатами со шнурками по бокам, с вышитыми шёлком розами, с колокольчиками.
То был театр. Улица для неё что тебе сцена. А прохожие – негаданые зрители.
Оно и не хочешь, да поймёшь. Ну кому в молодую пору не нравится нравиться? Ну кто на восемнадцатой ликующей весне не дал бы дорого, абы быть разнепременно у всех на виду? Абы всякого, кто и невзначай уронил на тебя глаз, приневолить ахнуть?
А разом с тем всё то было и враньё. Враньё самой себе. Враньё улице.
Вот вырвалась хорошутка на выходной к домашним. Уединенница без уличного маскарада проста, велика в своей искренности наедине со спицами. Она такая, какая и на самом деле. Спицам не соврёшь. Спицам неправдушку не дашь.
Она была не выше веника, когда научили её любить, почитать спицы. Доброе зерно легло в душу, окрепло, проросло. И какие бы теперь неоткладные заботы ни отлучали её от спиц, она в непременности будет возвращаться к ним с повинной, как с болью в душе возвертаешься к себе на Родину, в глухую деревеньку, давным-давно забытую Богом, но которую тебе ввек не забыть; до крайней минуты спицы будут в её руках в часы печали, грусти, отдохновения, как это сроду водится у всех у жёлтинских баб.
Лицо у девушки сосредоточенное, вдохновенное; чудится, вот сам праздник, сама радость в лице том сейчас.
Незамеченная, я вижу: её губы трогает улыбка, девчонушка хорошо так улыбается платку, что вяжет, может, себе к свадьбе иль подружке к свадьбе, иль матери в подарок к рождению, иль ещё кому…
Я долго шла по Жёлтому.
Мужиков у завалинок не видать. Они больше на огородах. Да и там, тоже сюда клади, донимал их наш свербёж вязанья.
За плетнём вот сажают картошку.
Дед копает лунки.
Внучка рассеянно кидает в те лунки резаную картошку.
Дед бурчит. Подскалыживает:
– Спину не переломишь. Нагнись да положь как следуй. Глазка́ми вверх! А то картошка будет мучиться. Ой… Негораздо, разлапушка, пляшешь. Лень тебя, горюха, в недостаток втопчет…
– Тоже мне пророк-паникёр! – толечко не со слезами окусывается девчушка и с коленок переворачивает в лунках куски картошин как надо.
Не поднялась ещё, внечай повернула в сторону голову – зависть леденеет в её взоре.
Я посмотрела туда, куда смотрела она, увидала: по тот бок улицы, на низкой пряслине, сидели рядышком, будто ласточки, её ровесницы из класса так седьмого, а может, на класс и постарше, сидели и вязали, только спицы взблёскивали на солнце.
Тут заполошно подскочили на велосипедах двое мальцов. Видать, их единоклассники и начни любомилостиво уговаривать прокатиться.
Товарки отказывались, но отказывались так, чтоб не отказаться вовсе, наотрез; подружки ласково отнекивались, чисто улыбались, и сам Бог не поймёт, чему улыбались они, то ли тому – вот припожаловали разодетые раздушатушки и сухими от волнения губами клянчат обратить на них внимание, а им, девчушкам, хоть бы что, вроде того и потешно даже всё это; то ли тому, и это ближе к вероятию, что вот рождается под пальцами своя новая платочная песня, эта песня звенит звоночками в их молодых сердцах, но ни одна душа на целом свете не слышит, не догадывается вовсе о той солнечной песне солнечных спиц; не слышат ту песню даже эти отвергнутые и не отвергнутые ухажёрики, которые постояли-постояли и не на самые ль глаза насаживают кепки с прилаженными к ним пучками сирени, так ни с чем и убираются; не уезжают, вовсе нет, а понуро отчего-то уходят, не смеют поднять взгляда и в растерянности поталкивают велосипеды…
32
В гостях хороша девка,
а дома лучше того.
Улица завернула последнее коленце.
Я увидала свой домок.
Свой домок…
Слова-то что простые. Да дорогие что!
Увидала – стала и стою. А чего стою, и себе сказать ума не хватает…
У родного у домка, где пупок резан, судьбина не сахарней моей.
В голод, это сразу за гражданской за войной, с крохи на кроху переколачивались. Нуждица за край выжала. Привелось луговую есть траву.
Оха-а…
Голод не тётка, душа не сосед.
Свои законы голод пишет.
Туго натолкал тряпья отец в мешок.
Залился менять на хлеб.
А куда залился?
На все четыре ветрушка. Куда глаза приведут…
Бродил, бродил горюха…
Выбродил-выменял себе на наши наряды одного тифу.
Так в чужом месте с тифу да с голоду батяня и примёр.
Осталась мамушка одна с четырнадцатью горюшатами.
– Дети, дети, – плакала, – куда мне вас дети?
Брюхо не лукошко, пирожка не подсунет. Каждому-всякому хоть через раз корочку дай-подай.
А где её ежедень взять?
В среду, пятнадцатого марта двадцать второго года – склероз пускай и большой, но такое с памяти нейдёт, – горемилая мамушка сменяла домок, тот самый домок, что Федьша подлетком купил у её родителей, тот самый домок, куда после сама пришла к Фёдору женой – сменяла родной домок на плохущий куренишку.
И сменяла за что?
За пусто. За восемнадцать с половиной фунтов муки. И ту богатеи-менялы смешали с белой глиной.
В скорых месяцах куренёк тот грянулся.
Погнала нас недоля со двора на двор по чужим углам.
Всё Жёлтое перекрестили…
Ещё девчоночкой, бывало, проходишь мимо своего домка, нет-нет да и возьмёшь в печали на голос:[293]
– Я по улице иду,Медленно шагаю.На родимый дом гляжу,Тяжело вздыхаю…Запоёшь да и заплачешь…
Выросли братья-сестры. Зажили своими семеюшками.
Всяк спал и видел себя в родном притулье, хоть в какой своей норке буравлём.[294]
Я тоже думала. Вмечталась в это стремление. Всяк крючок лови свой кусок!
В сенцах у меня гниль ела полмешка облигаций.
Целая оказия!
Я молила Бога: пособи выиграть по облигациям помощь. Я откуплю тогда родимую избёшенку.
Да что… Молитвы мои падали на камни…
Однако ж, не было бы счастья, да подало его мне несчастье.
В последнее время куковала я у снохи двоюродного брата. Всё любила ставить себя большой. До невозможности баламутная была маламзя.
В пятницу первого мая пятьдесят третьего года сношенька моя поднялась не с той ноги. Ненастная.
– У людей праздник как праздник. Я ж и в праздник на ваши постные хари страдамши пялься!
– Чем же мы тебе страдание дали?
– В своём в дому исщо отчёт ей положь!.. Выметайсь! Чего плошки уставила? Я ремонт завариваю посля Мая!
– Сношенька… Голубонька, успокой тя Господь… Ну подтерпи денёшек какой. Одна ж одной, добрушенька, в таких в хороминах княжишь… Я побегаю поспрошаю… Нападу где на пустой отнорочек[295] – сей же мент съедем!
– Ну прямко навпрочь расслезила своими посулами! Не-е… Заткни, неучёса,[296] зевало да нараз давай вытряхайсь!
– Сношенька-госпоженка! Войди в мою горю… Иля ты нуже никовда не кланялась в ноженьки? Иль тебя и разу не укусывала своя вошка?
Тут сношка и вовсе рассвирепела.
Тигрица тигрицей сделалась.
Или вконец обиделась, что я потревожила её вошь?
– Тебе-то чё за печалька до моей воши?! – орёт дурноматом. Хлопья пены только отскакивают от губ. – Со своей вошкой я как-нить сама уговорюсь. А ты нонь!.. Сей же секунд слётывай! А тама, язви тебя, как знашь!
– Да куда ж я, добродеюшка, с детьём в буранницу?[297]
– А по мне хоть солнце не вскакивай!
Да в крепком гневе только у-у-ух дородным кулачиной в окно по переплёту. Створки со страху так и разбежались в стороны.
И накатилась моя сношенька-лютоедица сыпать в оконный провал наши манатки. Под снег.
Ну, в такой неподобице не добраться толку.
Посадила я Сашоню с Верочкой на вещи.
Сидят плачут.
А ляпуха, крупный лапластый снег, с ожесточением присыпает, присыпает, присыпает…
Больно-разбольно смотреть на деток – сердце рвётся.
Но поделать я ничего не поделаю. В одномашку я под эту крышу, я под ту – не надобны.
Задохнулась я шоком бегать.
Села к детворне. Всей артелиной кричим…
Да замоешь ли беду слезами?
Тут мимоходком чалили и пристыли те, кто покупал родителев домок. Фамильюшка им будет Скачедубы.
Не в пример другим не плетут заживные[298] Скачедубы нам венки из жалобливых слов. Нырь сразу в дело.
– Мы, – шумят под чичером,[299] – сымаемся с корня. Отбываем на житие в городское место. Не хотела б ты, потеряха, взять свою хатёшку назадки?.. Уходи, горюшко, от снохи. Невечно ж драться и когти притупятся… Моть, так всё у нас махнётся, что ноне и справишь ладины.[300]
Расхлебенила я рот – закрыть не закрою.
– Ну… Продаём… Чего ж тут с диву падать?.. Хмг… Эко диво, что у свиньи пятаком рыло…
Перецеловала, вымокрила я слезьми своих милостивцев; быстренько – жак! – жак!! – жак!!! – похватали что там с горюшатами из добра своего да и бегом к родителеву к домку.
Топчут добрыни спасители наши следы.
Из пурги, из этого белого стона беды, бросают в спину слова:
– Ты хотеньки воспроси, что мы хотим…
– Божечко мой! Мне, бездомовнице, в расспросы лезть? – в ответ кидаю. – Я тридцать один год по чужим норам клопов своей кровушкой обкармливала! Мне ль спрашивать? Мне ль об чём-то ещё блуждать на уме?[301] Мне наиглавно хоть одной ногой вжаться в свой домок. А там видать будет. Война план нарисует!
– Это ещё какая такая война? – выстрожились.
– А такая. Что положите, негаданные мои добродеи, то и возьмёте.
– Заране предупреждение даём, – идут в обход. – Да ты сама у курсе… Всё на свете меняется. Линяет платок. Люди тем пачей. Меняются времена. Меняется на всё ценушка. Весной двадцать второго года, когда ваши продавали, деньги никакой в себе силы не держали. Мой родитель каки тышши на тышши имел! Только с тех тышш прок невелик. Ну прикинь сама… Тогдашневский отдельный номер газеты «Известия» ходил за семьдесят тышш рваных! Пустые тышши… Шелуха…
– Вы к чему?
– А всё к тому… На ту пору, милоха, не на рубляки – на натуру всё пущали. Кругома страшна дешевень разбойничала. Каковецкие домины кидали за то же ведро капусты!
– Но мы-то за муку…
– Вот-вот… Наши взяли у твоей родительки, царствие ей небесное, за неполные восемь кил паша-нич-ной муки!
– Ну а мне верните, – усмехаюсь, – за все девять. Я ж вам с богатейским походом отваливаю. Полное кило приварку!
– Се в похвалку, посмеятельница, что осталась на чужой лавке, без своей крыши над головой, живёшь горевским житьём, а шутки шутишь. Тольке бросай ты, милуша, такую замашь, – наставляет на ум белый, как кипень, лисоватый домохозяйко Скачедуб и долбит крюковатым указательным пальцем меня по плечу. – Оно способней побегить, ежель ты, двусмешница, хохотошки отставишь на посля. Внимай… Я доволе пожил на своём веку. Набежный конишка…[302] Уже твёрдо отличаю большой палец от мизинца. Не болтохвост…[303] Знаю, что леплю. Погутарим по-чистой…[304]
– Что ж вы просите?
– За алтын не продам.[305] Не старую цену, конешно… Знаешь же… Бату́-бату́ – всё к своему животу…[306] По нонешним шуршалкам я отмажу у тебя полных три тышши. Копеечка к копеечке.
– Три так три… Всё же меньше, чем пять. Я согласна на всё. Абы не жить ото всяких там хозяев.
– А что, – торочит, – ты нам зараз в наличности подашь?
– Кроме большого спасибушки ничегошеньки, дорогие вы мои жизнедары. Деньжанятками я сейчас не сильна.
Вокняжилась я в свои хоромы…
Привалило счастье, хоть в колокола звони!
Час к часу почти восемь месяцев, до зимнего Николы, не знала я ни дня, ни ночи. Натурально не знала. Спала я два-три часа. На доранье люди встают коров доить – я толечко падаю спать.
Ох и старалась я. В нитоньку тянулась.
Без роздыху всё вязала, вязала, вязала в уплату за домок. Всё вязала… Как движок,[307] в эту работу была вдавлена.
Спицы из железа, и те стираются…
До такого степенства уставала… Глаза особенно… Выбираешь мёртвый тот волос из пуха. Выбираешь, – а была я сама себе большая контролёриха! – до того навыбираешься…
Всё. Ничего не вижу!
Выскочишь во двор. Не поймаешь сразу, то ль месяц на рогу,[308] то ль солнышко наверху…
Сено копнила-бугрила,[309] солому метала – куда легче!
Платки мои – на них я положила тяжёлые труды – вернули мне родной домок.
Долгохоньки ж таки, целые веки, скрозь тугие беды вела меня судьбина к своему к гнёздышку.
Навприконец-то довела…
Вокняжилась я в своё имение…
Теперь это царь-поместье моё… Вавилоны мои… Детинец[310] мой…
33
Птица и та знает свою семью.
Под окнами домка отогревается вешним теплом огород.
На огороде земелюшка не копана. Слежалая. Пусто на огороде у меня. Квартирует покуда там одна только пужалка. Огородная бабушка.[311]
Со смешком кланяюсь я ей из калитки:
– Здравствуйте Вам, Анна свет Фёдоровна!
Проговорила я это так, что сразу и самой не уловить, чего в голосе больше, не поймёшь, чей в голосе верх – шутки, радости, недоли…
Не заметила я, когда только и успела выстариться.
Не заметила, когда только и отпела молодость пташкой. И уже ковыляет по ухабам старость черепашкой…
Надумаешь у своих попросить карточку, наперёдки отправишь свою. Там уже под неё канючишь:
«Мои миленькие, как я жду вашу карточку. Посмотреть бы на вас, порадоваться бы на ваше счастье… Пришлите… А мою вы уж страшненьку спрячьте…»
Я продала глаза на себя молоденьку. Я любила, я люблю себя когдашнюю, молодую. А сейчашечную я себя, страшилку Ягиничну, не люблю. Боюсь я, старушенция-страшенция, своего лица, старого, какого-то мне чужого, к которому я до сегодня нипочём не привыкну. Словно та собака, что всю жизнь привыкала к палке, сдохла, да так и не привыкла.
Моё лицо теперь всегда пугает, одевает меня страхом, когда ненароком ни ткнись я в зеркало.
– Тебе только пужалкой служить, – бухнула я себе раз в зеркало, состроила такую картинищу – со страху отшатнулась и перевернула зеркало лицом к стенке. Абы никогда не видеть свою некрасу. Несокрушимую. Некрадомую.
И в огне её не спалить, и в купоросе не утопить.
Лицо не сорвёшь, в кусты потемну не забросишь. Не сбежишь от него. И смертью от него не отобьёшься. В гроб сунут саму, вывеску твою не позабудут оставить на вольке. Не разлучат. Хорошо, если зеркало ещё не подложат… До какой стыдобищи доехала… В окно выставь свою репу – кони шарахаются! На улицу выдь – собаки неделю воют! О-о подарушко! Нажила за всю жизнь долгую, мучливую. Таскай, Фёдоровна, до крышки. Сам же Боженька поцепил! Боженька знает, кому что цеплять.
Ну, у Боженьки свой интерес. У меня свой.
Мне-то зачем эки страсти видеть? Наваришко велик? Тогда на коюшки лишний раз пугивать себя-то? А?.. С нашей ли рожей в собор к обедне? Будет с нас и в приходскую!
– Пугалом! Пужалкой ступай в работу! – окончательно скомандирничала я своей зеркальной двойнице. – Ну литая ж яга-баба! Большуха над ведьмами!
Сладила я сама ту пужалку.
Дала ей своё имя-отчество.
Теперь вот в огороде исполняет дисциплину сторожа.
Под ветром на ворон, на галок рукавами трясёт.
Всё какая-никакая полезность…
Рядком с пужалом на шесте скворечня.
На её крылечке милуется скворчиная пара.
В полные глаза смотрю с-под руки на гостюшек.
Опять дойду до валидола…
– Прилетели, любители дорогие… Не позабыли старую…
Не в первые ли дни, когда я только что вернулась в свой домок, как-то я шла по двору с водой. Иду и вижу из-за ведра на коромысле: то пластается к земле, то взлетает в порядочных прыжках соседова рыжая кошка Сонечка-волчок. Гонится за молодым тушистым скворцом!
Скворушка ещё не умел как следует летать.
Он то и дело мелко подымался на крыло и тут же, через каких шагов пять, тяжело падал.
– Ты! Бандитка! – гахнула я на Соньку во весь рот.
Сонька даже ухом не повела. Всё гналась.
– Ну! Софка!
Толкнула я с плеча коромысло и махом за рыжей пакостницей.
Вода из вёдер было бросилась с шипом за мной вдогонки. Да враз и отвязалась. А! Беги сама. Мне без охотки!
Смотрю, а огнистая пиратка настигла уже тяжёлого в лёте птенца. Сгребла в когтищи.
Сорвала я с себя на бегу тапку, ка-ак шваркну!
Вильнула, отпрянула лихостная зверюга к плетню.
Подымаю скворушку – весь что есть в крови.
До чего ж и свирепа кошачья тварь. Как поддела зубом-иглой, так всю ноженьку от самого верха до крайности развалила.
Наскорях промыла я ранение духами (горевал в сундуке пузырёчек в виде виноградной кисти, последний Мишин подарок, до войны ещё в Ташкенте на Восьмой март кланялся теми духами). Смочила в духах шёлковую нитку с иголкой. Зашила всё где надо и перевязала ногу чистой, ещё тёплой от проглажки тряпицей. Перевязала натуго.
А ну скинет?
Для надёжности крайки тряпицы прошила. Похватала дратвой.
Попервах отлёживался мой пострадалик в сарае, на соломе в ветхом решете. А там, как чуток подправился, сколобобил ему Митя, дальний наш удружливый сродник, целую вот эту скворечню.
Радости-то что у меня!
Я с домком. И скворушка мой с домком…
Высунешься, бывало, во двор. Проявится из оконца своего на крылечко и певун мой.
Стоит поёт мне с верхов благодарствия.
За лето окреп певчук мой.
А осенью в ясный украсливый час отлетел за теплом в чужие края.
По весне, правда, с припозданием наявляется.
Я угадала его по дратве да по синей повязке. Повязка порядком вылиняла, поизодралась.
Заявляется не один. С ладушкой со своей.
Всё б хорошо, да в зиму оккупировали их домок воробьи-быстролёты. Зловредительцы эти миром не отдают. Будто надызбиц[312] им, дупел мало.
Ну что ж, отхлынули с битьём. Знатну трёпку учинили скворцы шкодникам: воробей птаха никчемушная, пустая. Живёт человеку в долг.
Чистоплотные новопоселенцы выстлали домок полынью. Вывели блох. Зажили себе в любленье. С песнями.
Встанут чем свет мои князь с княжной, счастливятся-милуются. Скворушка поёт-разливается, крылышками трясёт, «воротничок» пушит… И она не сидит мокрой мымрой…
Намилуются, натешат меня, старую, по-орх и полетели.
Видят, бредёт корова ль там, овечка ль. Сядут, прокатятся не задарма. Почистят шерсть. Выберут линялый волос на гнездо. Не оставят и одной живой мелочи, что всегда досаждает скотинке. Таким ездокам скотинка рада.
Передохну́ли.
Понеслись в поле к тракторам.
На вспашке каких только червей не выворачивает!
А не то в хлопотах собирают жуков, гусениц в садах.
Хорошие у моих друзьяков дела!
С днями забот набавилось. Пошли скворчата.
Тут вовсе круто стало. Хошь этого – в сутки семнадцать часов на лету! Под двести раз приплавь в день корму!.. Где-то я вычитала и списала себе в листок, что «за время кормления птенца стриж пролетает расстояние, равное кругосветному путешествию по широте Москвы».
Сперва мои летали поврозь. Он принёс – летит она. Вернулась она – упорхнул в свой черёд он.
А тут тебе с большого голода учинили огольцы невозможный крик.
Забыли мои про осторожность. Умчались напару.
Какую оплошку дали…
Этого-то и выжидали припрятавшие зло воробьи.
Едва убралась, пропала с глаз пара, как эти зложелательные басурмане только скок в леток – с чиликаньем посыпались наземь слепенькие ещё, голые скворчата. Всех до единого повыкинули.
Точно по сговорке внизу дежурила, топталась вражина Сонечка. Всех мальцов и прибрала.
Грешна, я видела в окно за спицами, когда воробьи юркнули в чужой домок.
Покуда искала обувку, покуда бежала, воробьи уёрзнули. И Сонька-Вовк уже из-за плетня сыто облизывалась и удовольно, леновато щурила сатанинские глазищи.
Помрак на меня нашёл. В очах смерклось.
Острая жалость полоснула по сердцу.
Не уберегла… Беда, беда какая…
Пришатнулась я к плетню, хочу пустить в Соньку нитяной клубок – мочи нету руку поднять…
С Соньки какой спрос? Была зверюга зверюгой. Нежной и хищной. Да такой и останется. Хоть и спит не во всяком ли дому на той же подушке, что и человек.
Но вот воробей…
Пичужка домовая, мирная, жидкая. Соплёй перешибёшь! Без жадности к крови вроде. А на-поди, способная на какую лиходейскую месть…
Подлетают мои.
Рады-радёхоньки.
В клювах жирные червяки извивами ходят.
Сели на приступочку у оконца – тишина…
Пустили робкие глаза в домок в свой – пусто…
В растерянности оглядываются…