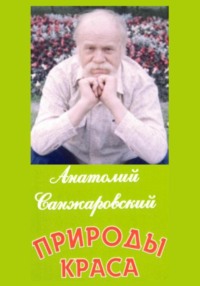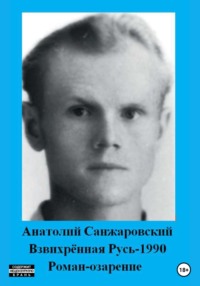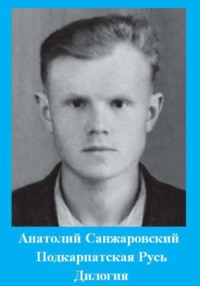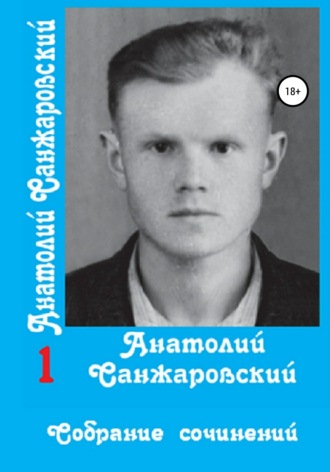 полная версия
полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый
Жалливо смотрят на меня…
Чем же я подмогу вам, горюнята? Утёклую воду не воротишь…
Мои сюда, мои туда. Нигде нету малых.
В домок так и не вошли.
Улетели с горя в лес.
Но ещё недели с две прилетали-плакали.
Опустятся на кухоньку, целыми днями не сводят со скворечни тяжистые глаза. В печали выжидают, не пойдут ли голоски оттуда родные…
Далеко до обычного разлучного срока тронулись мои на юг.
Затужила бабка.
Думаю, всё. Не увижу большь.
Да, к счастью, ошиблась.
На новую весну воротились-таки!
Теперь я подумнела.
Теперь я при них козырная защитка.
На таких добровольских правилах покруче взялась я ладить статью. Своротила дело с абы как на верное. Когда вышелушились слепыши, забрала над птахами полный присмотр.
Пуще против прежнего стала прикармливать взрослых.
А не примаете моего стола, поняйте ищите лучшего и не бойтесь. Нонче я за ребятушками, за очерёвочками за вашими, исполняю наблюдение по всей дисциплине.
Сяду погодистым днём под солнушком, – а мне что в избе, что во дворе сочинять узоры, – вяжу да поглядываю на скворечню.
Коршун замаячь какой, сорока, ворона – платком махаю.
– Кыш!.. Кыш!..
У меня не уворуешь.
Подросли пискуны. Вся семейка отбывает на вольное житие в ближний лес.
А в осень, как уходить на тепло, заворачивают ко мне денька на два.
Всё поют, грустно так поют.
И благодарят… И прощаются…
Двадцать пять осеней уже прощаемся…
Двадцать шестую весну встречаемся…
Из-под руки смотрю я на весёлых на постояликов своих.
Миленькие вы мои пташечки… Опять вы ко мне прилетели радовать своим счастьем, своими песенками…
У вас пенье. А я плачу… Вы всегда вместе. А я всё одна да одна… Скворушку моего… война… сгубила…
34
Всяк дар в строку.
В домке у меня примрак. Оттого полумрак, что цветущая сирень закрыла оба окна с синими ставнями.
За окном сирень.
На столе в банке с водой сирень.
«А что, богатая я!» – думствую я про себя и с устали опускаюсь на низкую койку за печкой.
Койка эта так, расхожая вроде. Посидеть там, полежать подремать какой часок, поработать спицами, когда не в охоту тащиться в кухоньку, где в обычности всегда и работаешь, где и обретается весь мой халяндор-баляндор – всякая всячина, всякий привьянт, к вязанию касаемый.
Напротив, изножьем к двери, высоконькая нарядная кровать. С периной, с шитыми подзорами, с горушкой подушкой под кружевной белой накидью. Кровать аккуратно убрана. Какая-то музейная.
Та кровать наособинку.
Гостевая.
Я и не упомню, когда на ней спала. Давнёшенько не разбирала. Всё в кручине ждала, ан нагрянет кто из своих внечай, негаданно. Так и постель не надобно готовить. Стоит вон ждёт. Приезжай только давай…
Эха-а, дети, детки… Были ягодки…
А сейчас осенний лист… сорван с веточки…
Распихало житейским ветром кого куда. От своих семей лишний разок и не скакнёшь к мамыньке…
Гости ударяли всё больше по лету.
В августе лето навстречу осени вприпрыжку убегает…
А в осень да в зиму невмоготу одной с дождями, с вьюжевом за оконьем.
Вот я и возьми да замани на постоину в позапрошлый сентябрь Надюшку мою Борзилову. Сейчас похвальница Надя уже в десятых классах. Наполно видненькая из себя невестонька назахват.[313] В Кандуровке, откуда она, нету полной средней школы. А в Жёлтом – вон стоит. Я и примилуй Надюшку к себе на житие.
А было так.
Вижу, раз промаячила под леноватым сентябрьским сит-ничком незнакомая молодяшечка[314] в школу и из школы.
Промаячила два.
Где два, там и три за компанию.
С днями окрепли, подмолодели дожди. Посыпали вскоре окатные как надо. Ну совсем расхлестались. Как чумородные.
Третьи сутки подряд дождь оплакивал молодую ветреницу осень.
В тот день Надя брела из школы под купальным проливнем. Уж дождь дождём, поливай ковшом!
Завидела её в окошко – захолонуло всё у меня в груди. Мокренькая вся моя пуговичка. Чать, и под мышками мокро!
Без жали не взглянешь на неё в полные глаза.
Домёк мне и шепни: зазови переждать дождину.
Вскочила я, как дождевой волдырь. В лёгком, в чём была – за калитку. И вскличь её.
Девчоночка приглянулась мне своей обходительностью.
То да сё да и заедь я исподтиха в расспросы.
Мол, чья, откуда ты, обаятельница?
– Кандуровская.
– Да у меня оттель домок мой! – на пламенных радостях сдаю рапорт. – Миленькая! А что ж это за муку мученическую Бог тебе послал? Чего ты катаешься по грязюке в такую далищу?
– А и будешь кататься. На постойку никто не берёт.
– Так и никто? Виновата сама. Не в ту дверку стучалась, ластушка! Иль мы нерусские?.. Одно слово, миланька, не погребуй старой, – да и хлоп открытые карты на стол. – Давай на мою на перину безо всякой там платы. За так.
– Ка-ак за так?
– А так! Не об одном хлебе живы… Живи, разговоры разговаривай. Абы не так пусто-хмуро было в домке… Вот и вся плата.
Надюшка, майская моя веточка, отломила мне согласность…
«А богатая ж таки я невеста! Ну, куда ж его богаче!? Ложусь – есть кровать. Сажусь – вот он, стул. Обедать – накормит царь-стол. Надеть что – в гардеробе от тряпок теснота… Вот бедная была, болела когда… Ну да с Богом не подерёшься…»
Примочила я душу. Напилась.
Сижу себе, гляжу не нагляжусь на светёлку свою.
Глаза гуляют по комнате. Точно вольная утка по пруду.
Взгляд мой зацепился за сирень в банке.
Сирень я увидала сразу, как только усунулась в комнату. Но внимания на сирень не положила. Теперь же её свежесть смутила меня.
Что-то тут хитрится…
Откуда в доме свежуха сирень? Кто дома? Милсветный дружочек Надюшка?
Да не может быть!
По обычаю, на выходные она уезжает в Кандуровку. Вертается только в понедельник к школе.
Тогда кто это играет из меня игрушки?
Я в кухоньку.
Крадкома подхожу.
Слышу, Надин голос вестыньку даёт.
Только не разберу. Не то говорит, не то поёт.
Притолкнулась я к стенке. Заслышала ясно.
Надя негромко напевала мою скоморошину.
– Мышка с кошкой подралась,В одну ямку забралась.Вот поехали бояре,Посадили мышку в сани,Повезли мышку в КазаньНа широкий на базар.Никто мышку не торгует,Никто даром не берёт…Не довела озороватушка до конца скоморошину.
Говорит:
– Пушок! Тебе надоело про мышку? Зеваешь? А вот эту ты уже слыхал от меня?
– Дин-дон-дилидон,Загорелся козий дом.Коза выскочила,Глаза вытаращила;Побежала к дубу,Прищемила губу.Побежала к Федьке —Дома одни детки.Побежала к кабаку —Нанюхалась табаку…– У-у, раззевался… Не мешайся. Кому я сказала?
И тихо.
Снова Надин голос. Чистый. Радостный.
– Коза в синем сарафане,Козёл в красном малахаеПо улице скачут,Белу рыбу ловят,Сестрицу кормят…Пробаутки эти всё мои.
За спицами сколь твердила их в шутку Наде. Запомнила…
Я подобралась к двери.
Дверь в кухоньку чуть приоткрыта.
В полоску света я вижу… На столе выложен платок из лепестков шиповника. У стола потягивается Пушок. Потянулся раз, потянулся два и прыг на лавку к Наде.
Сел рядком. Обнялся хвостом.
Надюшка со смешками твердит прибаски Пушку, готовому во всякую минуту завести глаза, и проворно выбирает из пуха мёртвый волос, сор.
На табуретке недовязанный платок.
«А молодчайка ты, чёртик с хвостиком! – в мыслях хвалю Надю. За работой она не видит меня. – Отвагу таки дала…
Божечко мой… Насмелилась… Села всё ж ладить платок…»
Я пустила грех на душу, когда сказала, что взяла Надюшку к себе возради компании.
Надюшке-то я, понятно, ни гугу.
А сама подумывала…
Ну чего зря коптить небо? Оно и так закоптелое. Пущу-ка я девчоночку да и возьмусь тишком наумить, гнуть её к вязанию.
Надюшка за всё проста.
На первых порах всё вроде с опаской посматривала, как это я вяжу. А там всхотелось ей попробовать, попытать самой.
Я и подтолкни:
– А может, золотко, настояще поучишься вязать? Дело ж нехитрецкое.
– А станете школить?
Я вопросом по её вопросу:
– А что ж ещё бабке делать, как не профессорничать? Это ж старым рукам да глазам отрадная прибавка… Не дурандайка я какая да ещё внасыпочку. Семьдесят восьмой годок взаймы беру у жизни. Пора б чему путному наловчиться да и впихнуть в молодые руки. Далей чтобушко жило…
И положили мы промежду собой такой уговор. Как поделает она школьные уроки, так мы и за спицы. Теперь я ей учительша. А она при мне стажёрик.
В скорых днях Надя как-то вернулась из школы весёлая.
– Вам письмо! – на смеху трясёт листком.
– Так читай скорей.
– «Для изготовления оренбургского платка, – читает она второпях, – используется только пух местной породы коз, который отличается высочайшим качеством, а кроме того, – уникальными лечебными свойствами. Этот пух содержит большое количество особого вещества ланолина, который ускоряет заживление ран и переломов. Использование изделий из него помогает избавиться от лимфаденита, успокоить ревматические боли, прогнать радикулит, полиневрит, мигрень, воспаление тройничного нерва, остеохондроз, уменьшает дискомфорт при пяточной шпоре, эффективно при варикозном расширении вен. Врачи рекомендуют укутывать в оренбургский пуховый платок простуженных детей. Да и вообще веками проверено, что если малыша, который плохо спит, завернуть в такой платок, сон его будет спокойным и безмятежным», – на радостных тонах дочитала она с листа и подала его мне. – Я была в библиотеке, в газете это прочитала… Вспомнила, что Вы собираете всё о платке… Я и спиши Вам…
– Спасибонько тебе, милушка, за такое царь-подношеньице…
Я смотрю, с какой с дорогой душой работает сейчас моя Надюшка. Чувствую, нет, не понапрасну задала я себе трезвону да беспокоицы. Совсем не внапрасну возилась я с девчонишкой при ночных огнях. Не пал мой труд хинью.
Комок подкатил к горлу.
Я вошла в кухоньку.
– Бабушка!.. Родимушка!..
Надюшка бросилась ко мне и эх целовать!
– Да тише, – смеюсь, – тише, голубка ты моя белая… Врачи склеивали, склеивали! А ты в один секунд и рассади стар горшок этот…
Надюшка отпрянула.
Раскинула руки. Смеётся мне в удивленье.
– Бабунюшка! Да откуда ты?
– А оттуда, куда сама и провожала.
– А что, ты сбежала?
– А ты почём знаешь?.. Ох, тебя на кривой козе не обскачешь. Ты у меня знаешь, почём ходит двугривенный.
– Гм… Когда я была у тебя в последний раз, я спрашивала доктора…
– О! Доставучая моя девонька-жох! – перебила я в похвальбе. – С самим имела совет!
– Имела… Я спросила… Доктор и скажи, что выпишет вакурат, как из пушки, во вторник. Вот послезавтра будет.
– Видишь… Доктор предполагает, а Анна Фёдоровна располагает! – в пылу набиваю себе ценушку.
Ну совсем раскуражилась в своём куреньке бабайка.
– Бабунечка… – От досады Надя хрустнула пальцами. – Да знаешь, ты все мои планы… Ну… Кверх тормашками!
– Не велик наклад. Сейчас снова вниз кармашками поставим… Что там такое хитростное?
– А то, что отпросилась я от вторниковых уроков. Наладилась, ёрики-маморики, за тобой ехать.
– Вот только этого-то, – плеснула я руками, – мне и не хватало! Ты поехала б, а свои – тоже сюда клади! – а свои в Оренбурге отстрянули б, что ли? Да они б там на тот вторник, поди, самоличный аэроплан заказали б везти в Жёлтое вот эту даму из Амстердама! – тычу в себя. – А надо мне это – а чтобушко его черти горячим дёгтем окатили! – как карасю зонтик. Этот ручку подал. Тот ножкой шаркнул… Да на что ж мне такая бесплатная комедь! Нешь я покойница, что навкруг меня будет шалопайничать целый табун охальщиков да ахальщиков?
Живой ходи без подпорок! А я живая. Вот я своим ходом и пустилась до поры. Абы не сцапала меня в полон сердобольщиков рать… Правда, доктор для порядка чуток поманежил, покрутил носопыркой. Торочит:
«Вообще-то вам не повредит побыть до вторника».
А я ему и резани, понапрасну бабка рот ширить не станет:
«А я не солдат, чтобушки отбывать минута в минуту. Вижу по лицу, вы думаете про меня: дурёка тот поп, что крестил, да забыл утопить. Думайте так. Я на вас за то сердца не держу. Только и вы меня не держите. Знаю я себя лучше, чем вы. Чувствую я себя дай Бог каждому так себя чувствовать. Так что давайте по-доброму раскланяемся в воскресенье!»
– Прямо не верится… Вернулась… – сражённо прошептала Надюшка. – И слава Богу!
– Да нет, Надюшка. В строку ладь другого. Слава вот ему.
Я достала из сумки платок. Серебристо-серый, узорчатый.
Встряхнула и праздничным пушистым облаком широко расплеснула по столу.
Надюшка в затаённом восторге прикоснулась к платку.
Её рука потонула в нежной, шёлковой прохладе.
– А ты что, в больнице вязала? – хлопает белыми ресничками Надюшка моя.
– А что ж, по-твоему, я ездила туда отмирать? Так, едрень пельмень, и разбежалась!.. Безо время… Платок один и взвёл на ноги… Думаешь, чего это я укатила в выходной? А платок доработала. Рапорт сдаю доктору:
«Прикончила я платок. Делать мне тут больше нечего. Так что выписывайте».
«Так и быть. Основание веское». – А сам улыбается, улыбается…
– Ой! Да ты совсем не больнуша какая кислая. А сущая цунами!
– А нужлижь зря звали меня девка-ураган? Ураган во мне всё помелькивает… Мне ль над болью сидеть? – И смеюсь: – Ох, мой Бог! Болит мой бок девятый год. Только не знаю, которо место!
– Оя, бабуля! Да я наотруб забыла… Сошла с мысли… С час как тому на заказ приплавил из района Рафинадик…
Молотуша моя смешалась.
Этот демобилизованный герой – под пушками воевал с лягушками! – нипочём не надышится на неё. Пролюбились уже с осени. Ноябрь въезжал в королевские холода, когда любощедрого парня отпустила в волю армия.
Нет того любее, как люди людям любы.
Любо с два!
– Привёз ваши любимики… Я нарочно их в сумрак. Спите себе в комочках и не распускайтесь! С ними я прискакала бы во вторник в больницу.
Надюшка шагнула в тёмный угол.
Не успела я и глазом лупнуть, как она поставила на край стола обливной кувшин с вязанкой ало горящих тюльпанов.
От этого костерка без жара широкая радость брызнула во все стороны.
– А ещё, бабушка, новость… Думала я, думала и знаешь, что надумала?
– Скажешь…
– В вязальщицы пойти! Надумала я твою стёжечку топтать…
Дрогнуло у меня сердце.
А пошли ж таки росточки от моего труда!
– Вот это, – подкруживаю к своему главному интересу, – нашему козырю под масть! За такую новостину, за тюльпаны я и жалую тебе последненькую свою паутиночку…
Осторожно разгладила я на столе платок.
Пододвинула Надюшке.
– Носи на здоровье, золотко… Помни бабку Блинчиху. Верю, будешь ты знатно вязать… А я… А я… А я… Ты не смотри на мои слёзы… Так они… Что с меня возьмёшь? В позатотошний ещё год положила я дочке, фельдшерке своей, тыщу на книжку. Тыщу положила и сыновцу… Двое у меня… Хоть его и говорят, детки не картошка, поливать не надобно, вырастут и так, а я всё ж своих рублём не обхожу. Подсобляю. Покудушки ноги таскают… Покудушки сердце бьёт жизнью… Пензией меня, славь Бога, не офарфонили…[315] Неплохую носят да прирабатываю ещё поманеньку. Так что ж не помогать?.. Я, милая моя задушевница, жизнь свою изжила с зажимкой. В крайней бережи отпускала от себя каждую копееньку. В лишках не тонула. Даже не купалась… Это вот сейчас, под свал, чуток поводья отпустило. Дети впрочь встали на ноги… Вроде заживно, вольней покатило. Набежали шаловатые рублята-ребята. Я и сплавляю своим… Не гроб же облеплять деньжурой?.. Не забыла я и себя. Четыре сотни содержу на книжке. На похороны… Вишь, про что думает бабка, миленькая…
– Из больницы вырвалась… Ну какие ж тут похороны!? Ну посуди… Да забудь ты про всё про это, бабушка, и не плачь… Ну что ты? Всё ж хорошо!
– Хорошо… хорошо… Надюшка…
– Да нет. Ты только так говоришь. А сама плачешь. Радоваться надо!
– Надо… – соглашаюсь я. – Надо… Но…
Мало-помалу слёзы затихают.
Я ловлю себя на том, что обе мы молча смотрим на платок и не можем отвести глаз.
– Бабушка, а сколько живёт платок? – тихо спрашивает Надя.
– Да ему, как и нашему роду, нет переводу. С годами разнашивается… Снежок, дождик ли – ещё больше пушится, растёт. Дожди ему, что хлеб человеку. А дожди не обходят нас, Надюшка…
28 июля 1974. Воскресенье. – 9 сентября 2018. Воскресенье.Что девушка не знает, то её и красит
Повесть
Чёрное к белому не пристанет
Русская пословицаПосвящается Геннадию Донковцеву – Отцу Оренбургской Книги
Название повести может сбить кое-кого с толку.
– Как!? – воскликнет он. – Ещё одно "Похвальное слово Глупости"? Мало Эразма Роттердамского?
Роттердамский воздал должное "царице Глупости". Я же в своей повести попытался воздать должное "царице Чистоте", которая живёт в каждом человеке, покуда он не умеет лгать, ловчить, предавать, подличать, выдавать желаемое за действительное – то есть покуда он не знает, что такое человеческие пороки и, естественно, не использует их в корыстных целях. Такое незнание красит любого человека, за такое незнание не грех и ратовать.
Свою «незнайку» я не выдумал. Она дочь реальных оренбургских первоцелинников.
1
Эта беда не беда,
только б больше не была.
– Ну что, дружочек-уголёчек? Вижу, не хватило строчки для твоей фамилии в списке принятых?
– Не хва… ти… ло… тётя…
Повалилась я к тёте на грудь.
Не знаю, долго ли, коротко ли ревела, только слышу, мокрое у меня одно плечо.
Подымаю голову – тётя моя в три ручья течёт.
Я так и обомлела.
– Тё-ётя! Вы-то что?
– А-а…
Краем полотенца, перекинутого через плечо, промокнула тётя себе лицо. Подала мне другой конец.
– Вы что ж, шли открывать с полотенцем? Уже знали?
– А кто, дружочек, не знает… Один умный человек сказал: мы все стремимся к лучшему, да должны быть готовы к худшему. Я и приготовься…
Соседский пудель белой горкой сидел на порожке.
Удивлённо таращился на нас.
– Вот где кулёмы! – всплеснула тётя руками. – И не видим, что дверь-то у нас наразмашку!
Захлопнула она в сердцах дверь.
Тихонько подтолкнула меня в локоть:
– Ну, давай на кухню. Давай, давай! Торт по тебе соскучился.
– За что мне торт? Я ж проклятого полбалла недобрала!
– Какие твои годы… В следующем августе доскребёшь.
– А до августа что делать?
Подумала я, с какими это глазами возвращаться к себе в Светлый… Снова повело на слёзы.
– Как… домой-то ехать?..
– Дружочек-уголёчек! А разве тебя кто гонит? Ну пошевели понималкой… Да забудь ты про всё! Всё в шоколаде! Ты сдала как могла. Выше себя не прыгнешь… У всех разно… Вон днями читала в газете… Одна чудилка в Южной Корее целых пять лет бегала в полицию сдавать экзамен на водителя. За девятьсот пятьдесят забегов сдала половинку экзамена. Правила дорожного движения. А впереди вторая часть экзамена. Практическое вождение. Эта упёртая бабулька – ей семьдесят, возраст, когда права надо не давать, а уже отбирать! – за десять попыток свалила-таки и практику. Теперь она точно всё знает и на дорогу может не смотреть! Я в шоке… Научите меня водить самолёт, буду летать над московскими пробками… Представляю, сколько теперь работы пало на страховые компании и автосервисы… Думаю, с первого же дня вождения бизнес этой тёти-моти шатнётся в убыток… Конечно, баба бабе рознь! Так что ещё вопрос, кто виноват в присутствии на наших дорогах идиоток на каблуках, с мобильником в одной руке и с помадой в другой, меняющих крылышки или колготки на МКАДе в час пик.
– Столько раз сдавать… Наверно, когда отвечала, со стыда глазки опускала?.. Да что-то я не видела, чтоб овечка глазки опускала. Похоже, мозговая активность этой хвени ущербна. Но это лечится… А я читала, в Германии после третьей неудачной попытки сдать – обязательный «идиотен тест»! Не обижайся, но раз уж ты блондинка, то согласись, некоторым красавицам «идиотен тест» полезен до поступления в автошколу.
– Ну… Блондинка – украшение жилища, а не мыслящее существо или средство управления автомобилем. А сдают и брюнеты кисло. Знаю самцов, которых заворачивали раз по десять, пока бабла не кинули. Вон сосед у меня. Тупец отпетый. Сдавал десять раз на эти права… Так вот… Эта Чха Са Сунн торгует продуктами. И товаришко свой возила на ручной тележке. Тяжеловато… И нарешила Чха купить грузовичок и получить права. И за девятьсот шестьдесят попыток еле вырвала эти чёртовы права!.. Зато пятеро братьев Шабуниных из липецкого села Ксизово один за другим поступили на физический факультет МГУ. Кончили… Один уже работает в Англии… У всех, милуша, разно… Приняла ты с этими экзаменами сто мук. Наконец экзаменационная эпопия твоя кончилась. Давай зальём это историческое горе чайком с тортом. А там… – голос её улыбнулся. – Покуда ты недобирала на допросах свои полбалла, родная тётя думала о тебе и кое-что, кажется, придумала.
– Что же?
– Но об этом потом. На прогулке.
2
Беда глупости сосед.
Дурак с дураком сходилися, друг на друга дивилися.
Во всякий вечер мы гуляли только по набережной.
– Ты никогда, – грустно заговорила тётя, – наверное, из деликатности и не спросишь, а почему именно сюда я прихожу с тобой. Пожалуй, я б тебе этого не сказала, не подставь тебе сегодня эти полбалла ножку.
Она подошла к перильцам набережной, одетой в звонкий бетон. Сразу за перильцами отвесно падал высокий берег. Где-то там, внизу, тяжело и дремотно ворочалась медведем река. Черно-лиловая мгла прятала её.
– Давным-давно, ещё перед войной, – продолжала тётя, – оказалась я в твоём переплёте. Была твоих годов. Поступала в твою же Тимирязевку. Добросовестно и основательно завалила первый же экзамен. Преподаватель рисовал мне двойку и нехорошо так усмехнулся. Мол, и гусика многовато.
Уж и не знаю как, только очутилась я именно на этом вот месте. Стою на откосе… Закрою глаза, качнусь вперёд – откачнусь назад… Боязко.
Тут откуда ни возьмись подходит парень.
Через силу потёрто, побито улыбается.
"Девушка, вы случайно не желаете утопиться?"
"А вам-то какая печаль!?"
"Единоличников за версту вижу… А может, всёжки поддержите компанию? А?.. Соглашайтесь…"
Как уж там повернулось не помню, только выложил он мне свою беду. Приключится же такое…
Приехал с невестой в загс. Невестушка в самом загсе и вертани от него… Вот только из загса. Ещё горяченький…
И такая жаль меня взяла…
За разговором остыл, успокоился парень.
Расправил плечи.
Со смешком подпускает туману насчёт того, что лучше б пожениться, чем топиться. Я промолчала. Высмелел он, шутя манит в загс. Я шутя соглашаюсь.
В тот же день шутя расписались и жили дай Бог всем так жить… Ах, кабы не война, чёрная разлучница…
Я к чему всё это тебе выпела?
Поют, узнать человека – пуд соли съесть. Слова то всё! Чему быть, того не обскачешь. Вон мужнино имя я только в загсе услыхала. До загса какой час и поговорили… Я б тебе не советовала слишком увлекаться еденьем соли. Бывает, по десять вон лет гуляют да разбегаются…
Такой вот мой план.
Ты не едешь в Светлый на родительский позор.
Остаёшься у меня. На хлеб и к хлебу всегда тебе будет. Пойдёшь на подготовительные. И грызи себе спокойнушко кочерыжку науки… Подготовительные ещё нескоро. Пока отдохни. На москвичей посмотри. Себя не забудь показать. Натурально. Да ты у меня в месяц выскочишь замуж! Правда, для замужества как минимум нужен он. Он у тебя быстренько проявится. Была б ты клумба какая… Так собой ты видная. Вся из себя конфетка. Всякому глазу праздник!..
Меня всю коробило.
– Тетя! Вы до сих пор всё шутите? – не без яда выразила я предположение. – Шуточки у вас какие-то… негенеральские…
– Будешь, – ломила своё тётя, – каждый день ходить на пляж как на службу и убивать разом двух зайцев: загорать и нравиться…
– Я? Бить подолом? Ага! Ну к чему гнать этот мороз?[316] Что я, гульная тёлка какая?..
Тётя обиделась, что я не приняла её план.
Настроила тишину.[317]
Молча мы так и побрели к дому.
И лишь на кухне, за чаем, я снова услышала грустный тётин голос.
– Не упрямься, как этот дедушка комар, – показала она на раздавленного комара на кухонной двери.
– А то что будет?
– А это ты у него спроси, – ткнула она в комара. – Только он тебе уже не ответит. Распрекрасно знал же этот звурёныш, что прибьют. Так нет! Всё равно надо ему переться ко мне на девятый этаж и петь мне в ухо своё романсьё. Допелся! Газетной трубочкой вмазала в дверь…