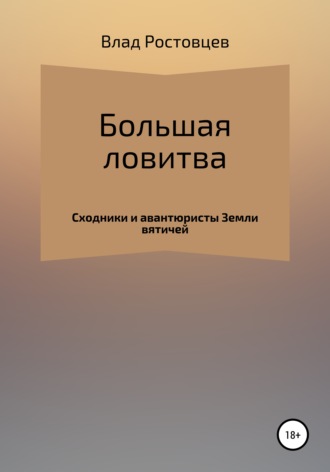 полная версия
полная версияБольшая ловитва
И хозяева подвала, при исполнении, соблюдая приличия, как и надлежит в общении с иноземцами, вхожими во дворец василевсов, дали разъяснение, соболезнуя с виду и гораздо потешаясь в душе.
Ошибка-де вышла – сего злосчастного приняли за ночного татя! Ведь шастал он в сумерках, незнамо зачем, по царьградским трущобам, куда его никто не заманивал, вот и заподозрили.
А татей они клеймят и увечат! – могли бы и иное отсечь, однако смилостивились.
Вслед они, скрытно потешаясь еще боле, предложили, что во искупление погрешности своей, случайной, замолвят, из чистого доброжелательства, слово перед высокими чинами Ромейского государства для продления безвинному страдальцу из Киева срока пребывания в Царьграде еще на одну зиму.
Ведь надо же ему окрепнуть от перенесенных тягот, да и ожоги заживают долго! – а целителей они предоставят своих, из служебной лекарни, причем не требуя оплаты за оное попечение.
Поблагодарив за сию протекцию, однако яро негодуя в душе, ходатаи забрали меченого отныне Булгака, прозывавшегося в Царьграде Остромиром, и отправили его домой на первом же судне киевском.
Осмысли теперь, младшой, сколь извилисты пути земные! – не угадаешь, где рухнешь, и почему; где вознесешься, и отчего. Меж тем, причины бедствий, равно и счастий наших, вытекают одна из другой.
Не предай меня единою мой помощник, не пошел бы Булгак по моему следу. Не упусти он меня тогда, не сослали б его в Царьград. Не окажись он там, доныне остался бы с ухом!
Все мы – заложники судеб своих! Однако порой причастны и сами …
С той поры Булгаку и невмочь стало высунуться за пределы Киевского княжества, ведь опознали бы его сразу же и заковали в железы, а там, глядишь, и второго уха лишили.
Хотя вряд ли лишился бы он живота своего, поелику способен многое рассказать. А заслужив тем, что всех выдал, мог оказаться на должности в нашей секретной службе. Дабы стал он своим среди чужих супротив прежних своих, уже чуждый им…
– А ты бы казнил его, ежели поймал? – не удержался Молчан.
– Сразу же, и рука б не дрогнула! – не стал отпираться Путята. – Самое благое дело отмстить Булгаку за тех, кого замучил он в киевских и черниговских застенках. Да ведь и на меня не единожды подсылал убивцев.
Однако нельзя! Иное дело, будь он злодеем мельче. А от мертвяка в больших чинах нет никакой выгоды!
Меж тем, аще Булгака разговорить – тут, знамо дело, не смогу обойтись без пыточного мастера – сколь многих своих спасти сможем!
Коли не заупрямится, не стану отправлять егона казнь. И выведав все, что нам надобно, предложу ему выбирать самому.
Согласится служить на нас, возьму его. Однако для вящей надежности заставлю вернуться к прежней вере! Прикажу волхвам, дабы провели над ним нужный обряд.
И непременно извещу о сем Киев через своих людей, доверенных! Якоже прознают в змеюшнике том, каков суть аспид их корноухий герой, то без промедления приступят к строгому дознанию по всем его начальствующим, равно и чинам, над коими начальствовал сам Булгак: вдруг и они изменщики? Долго им не до вятичей будет!
Разрешу ему даже чтить, превыше всех, Перуна – главного кумира в прежнем Киеве, а не Стрибога, коего почитаем главным мы.
А откажется служить нам под строгим надзором, на то его воля! Стало быть, сидеть ему, закованным в колодки, в сырой и смрадной яме до скончания дней своих. Сострадать ему точно не стану!
И Молчану открылось во всей полноте, сколь могущественен на вятичской службе тайной его старший родич, аще имеет право казнить и миловать вражьих сходников по своей воле, а волхвы у него в подчинении ходят…
XXXII
«Одно славно, – подумала Доброгнева, собирая снедь для мужа: вдруг проголодается в пути? – не встретится он, едучи на торг, с нечистью. С обозом-то никакой лешак не страшен!».
Суеверная, равно и все вятичи, особливо опасалась она лесной нечистой силы. Более, чем той, что обитала в жилищах и хозяйственных постройках: овинников, бабаев, домашних кикимор, невидимых днем и выдирающих мужские власа ночью, а также банников, обожавших пугать моющихся женщин – пуще всего тех, кои брюхаты.
И при убытиях Молчана на лесной промысел, Доброгнева не сомневалась, что при встрече со злыми людьми он осилит постоять за себя. Даже и крупные звери не столь тревожили ее: знаменитому уже охотнику не нужна подсказка, где отступить, а когда ударить первому. А вот ежели леший, тут жди худа!
Сей властелин леса был опасен дурной привычкой своей: сбить человека с лесной дороги, дабы плутал тот, завести в непроходимые трущобы и погубить его там.
А уж насчет «водить кругами» – вообще его любимая забава! Ежели он незаметным обходил кого-то в лесу, замкнув круг, тот не мог преступить черту и метался внутри.
Еще одна опасность, чреватая, заключалась в том, что у лешего имелись заветные тропы, наподобие звериных. Горе было тому, кто ненароком ступал на таковую!
И невозможно было спутать его ни с кем, повстречав в лесу! Не в том верная примета лешего, что огромен, космат и не расстается с котомкой – таковой с виду может оказаться и бродягой, хоронящимся от людских глаз, голью перекатной. Главные его зримые особицы в ином: одежда всегда наизнанку, ходит с шуюим лаптем на десной ноге и десным лаптем на шуюей, и при этом никогда не надевает шапку. Что до словесного портрета – не имеет ни бровей, ни ресниц, зеленоглаз, – то мало от него было толку. Ибо кто ж осмелится разглядывать лешего в упор?!
Впрочем, Доброгнева доподлинно ведала, чем Молчану расположить к себе косматого лесовика. Страсть, сколь охоч был он до вареных куриных яиц, поелику не неслись куры в его владениях, да и не водились. И всегда благодарен тем, кто, заходя в лес, приносил ему любимое его лакомство, положив его на пенек. Посему и не отпускала она мужа на охоту без того, чтобы положить ему в кармашек на поясе свежайшее вареное яичко из утренней кладки.
А в соседний кармашек клала зубок чеснока, чей запах не переносим был для лесной кикиморы – карги малого размера, покрытой травами и мхом. Терпеть не могла чесночного духа и болотная кикимора, жившая в топях и всегда готовая завлечь в свою трясину.
Летом в тот же кармашек добавлялось по листку крапивы, мяты и плакун-травы, а полыни – сложенную вдвое веточку, дабы отгонять назойливых русалок.
Однако, чем отвратить водяного, не слыхивала ни от кого Доброгнева. И коли Молчан отправлялся на охоту за крупным зверем или многой дичью пернатой на телеге и с возможной ночевкой близ опушки, она всегда опасалась, что ненароком потянет его к воде, ведь проистекали через тот бескрайний лес две речки.
На одной из сих, сказывали старшие поселянки, промышляли бесстыжие русалки, заголяя перси свои и намеренно не прикрываясь тиной, а на другой – злобный и хитрый водяной, вельми сноровистый утащить на дно любого, кто проходил мимо.
Впрочем, русалки представлялись Доброгневе малой опасностью для Молчана, исходя из того, что он сам рассказал ей единожды – перед сном, еже уж загасили огонь в глиняной плошке.
Случилось сие вскоре от возвращения его с первым снегом из того злополучного плавания в Царьград – исхудалым, помятым, в драном зипуне, рваной рубахе и прохудившихся лаптях – меж тем убывал в сапогах сафьяновых, и без какой-либо выручки, хотя брал с собой отборный товар.
Тогда и поведал обычно неразговорчивый с ней Молчан, никак заснуть не могший, а маяться бессонницей одному скучно ему было, как единою, еще в холостой жизни, слышал он зазывное русалочье пение. А все ж не поддался!
И припомнила Доброгнева о том, не подозревая о некоем умолчании у мужа в самом конце его рассказа.
Забредя в самую чащу в погоне за подраненным оленем, Молчан угодил в лешачий круг, и до самых сумерек не мог выбраться из него – тут уж было не до поиска подранка. И дабы поскорее добраться до опушки, где оставил он телегу и паслась на привязи кобыла Каурка, решил сократить путь, рискованно пойдя напрямик через овраг, коему не было ни конца, ни края.
Выбравшись-таки, он ощутил убытие сил и недоумение в утробе, ведь рыскал по лесу весь день, подкрепившись аж утром. И углубился в заросли лещины. Тем временем и луна взошла…
А неподалеку, с десной стороны, протекала речка. И вдруг донеслось до него некое пение, причем не в один голос, однако без внятных слов. «Русалки!» – мигом сообразил Молчан. О коварных повадках сих существ он был премного наслышан еще с отрочества, когда начал хаживать в лес за добычей, понеже на широкой и полноводной реке Москве, рядом с коей прошло его детство, они точно не водились.
Выходя из воды лунной ночью и неведомым образом забираясь на дерева, речные русалки, оснащенные рыбьим хвостом взамен ног, чем отличались они от болотных русалок, оснащенных гусиными ногами с черными перепонками, начинали качаться на самых крепких ветвях, издавая завлекательные мелодии самого задушевного свойства.
Аще находился доверчивый дуралей, подходивший к самому берегу, тут ему и конец! – русалки спрыгивали с ветвей, резвей кузнечиков, увлекали бедолагу в воду, а там доводили щекоткой до смерти.
Хотя иные заслуженные рассказчики уверяли, что никакой щекотки не бывает у русалок и в помине, а жертвы их – непременно мужского пола, испускают дух от сладострастного истощения. Обычно кто-то из дотошных, а хуже того, недоверчивых слушателей выражал недоумение.
А главные сомнения высказывались относительно сплошной чешуи на хвосте рыбьем, защищающей сокровенное у русалки, ровно кольчужный доспех оберегает грудь ратника. И возможно ли тут исхитриться страстям?!
На скептицизм сей следовал четкий ответ маловерам: не след отчаиваться, а надобно угадать по времени! Понеже у русалок регулярно, однако не чаще пяти раз подряд, бывают ночи, когда вольны они, уступая чувственным позывам, сбрасывать хвосты со всей наличной чешуей и принимать чисто женское обличье – вестимо, без одежд. Тогда и голосят они с особым пылом…
А старый горшечник Желан баял, и клялся в честности своей, не всеми принимаемой на веру, что по молодости лично видел лунной ночью чету русалок. Однако не соблазнился ими!
Хотя сами ноги принесли его на звуки, трогательные, почти вплотную к берегу. Уже готов был он всецело поддаться, а едва всмотрелся в них, призывно улыбавшихся ему, разом потухли все его порывы!
Со слов Желана, голосистые певуньи оказались на ближний пригляд далеко не юницами и даже не ягодками из второй половины пятого десятка. Возраст их представился ему ближе к преклонному, однако глазки они строили не по годам своим, а будто гулены из бывалых молодух. И когда кокетливо поводили плечами, сразу и начинали колыхаться, аки полевые травы на ветру, их безразмерные перси.
Еще Желан запомнил, что наели они таковые окорока, будто кормились одними утопленниками, и не бывало у них «рыбных дней».
Длинные власа их, зеленые с проседью – как сказали бы ноне, мелированые, были взлохмачены. И не ухожены настолько, что сии пособницы водяного, похоже, никогда не расчесывались. А та, что была еще старше, нежели иная, оказалась к тому же щербатой – с немногими зубами в остатке, отчего и улыбка ея, обращенная к Желану, вконец охолодила его.
И вмиг выветрился хмель в главе его! И возопил он: «Чур меня, чур!» – прося о подмоге охранного духа, оберегающего от нечистой силы. И ринулся прочь изо всех ног!
Восстановив сие в памяти, Молчан спросил себя: «А не взглянуть ли самому на сию речную нечисть? Ведь Желан и соврать мог. Вдруг, напротив, милы русалки, а не отвратны, и ночь сия для них – та самая? Будет, что вспомнить, иным на зависть!». И даже приостановился, размышляя.
Впрочем, обдумав наспех и доверившись внутренним своим ощущениям, здраво рассудил: «Что за прок слушать пение и прельщаться взаимно, когда кишки от недоеда сводит? Лучше потороплюсь к телеге, зане осталась у меня там половина краюхи в тряпице. А зубок чесночка и без того со мной!».
И последовал он сему резону. Однако, неспешно излагая, благоразумно утаил от жены о первоначальных своих намерениях. И даже не привел честную причину, по коей не направился тогда к реке.
Взамен открыл Доброгневе, что опричь нее никого, даже и русалок, не держит в потаенных желаниях своих с первого же дня брачевания. И растрогалась она, доверчивая! Услышав ее всхлипы, тихие, нежданно проникся и сам Молчан, не вполне искренний, вспомнив и загул свой, изменный, в Царьграде, вышедший ему боком. А она-то, дожидаясь его, верила! И словно во искупление, однако и с нахлынувшей сердечной приязнью, крепко обнял он жену свою, безгрешную супротив него, повернувшись на десный бок.
В ту ночь и зачали они Беляя…
А не прошло и трех дней, Доброгнева выведала у многознающих товарок самый верный отворот от прилипчивых, точно банный лист, русалок: бросить в них полынью. С той поры и стала снабжать его веточками растения оного.
Доживи она, премудрая, до наших дней, вполне возможно, придумала бы способ куда круче!
Скажем, плеснуть из полного стакана неразбавленным абсентом (а оное название и означает по-французски: «полынь»), крепостью не меньше 70 градусов, доходя и до 90, в зенки либо на топлес серийной губительнице экстремалов, беспечных, покарав ее навек. Ибо срамница та, мнившая себя бессмертной, рухнула б с древа, аки мешок с цементом, не успев и пискнуть. И скопытилась еще на лету!
Хотя, с иной стороны, бережливая хозяюшка едва ли б пошла на это, ввиду дороговизны сего зелья, в разительное отличие от бесплатной веточки.
Не бая уже о том, что Молчан мог запросто выдуть его еще по дороге на охоту. И не по 30 капель, разведенных ледяной водой с прибавкой расплавленного сахара, а разом, не разбавляя, и до дна – с непредсказуемыми последствиями, не исключая и полного одурения, еже зайца с медведем спутаешь, и пойдешь на него с рогатиной…
XXXIII
…Аккуратно выложив на дно телеги, выстланное чистой рогожей, рассортированные меха в кожаных мешках и оставив Храбра с Беляем надзирать за ними, Молчан вернулся за оружием, еще не облачившись в дорогой кольчужный доспех – подарок от старшего родича своего по возвращении из Булгара. И подойдя к стене, где оно содержалось, а Доброгнева уж присела на лавке, завершив сбор припасов, задумался, брать ли кистень.
Мог пригодится он, ведь невеликим получалось охранение обоза, и придется вовсю вертеться, отбиваясь. Тут кистень пришелся бы в самый раз. Да вот незадача! – не мастак он был с оружием сим. И оставил его, да и рогатину.
В последний момент передумал брать с собой и лук, решив ограничиться осемью сулицами в туле, рассудив: «Ежели нападут на нас с двух сторон и окажутся вплотную, не успею и натянуть тетиву. А сулицы в таковом бою сподручнее будут! – в кого-то, метнув, попаду, а иного проткну в упор».
Оставалось определиться о времени оповещения тех, кто поедет на торг, о том, что угроза разбойничьего нападения – вельми явная. Прямо сейчас, или позже, уже немного отъехав, дабы избежать перетолков от провожающих?
А непременно спросят они, чего ж не предупредил их еще вечор, едва сам узнал. Что им ответить? Нечего…
Однако, возможно ли было успеть оповестить их? Бегать ночью по всему городищу от избы к избе, поднимая хозяев?
И о чем бы тогда судачили днесь завистники его и иные злые языки? Молчан нисколько не сомневался, о чем. Хором закричали бы, что ослаб он, измельчал, изошел дрожью, страшась ехать чрез лес. Пыжится, а попусту! Не заступник он, не защитник! Нет ему веры боле!
Явно, что прав был его старший родич, поучая младшого: «Никогда не поддавайся стадности! Не иди на поводу у толпы! – отказаться всегда труднее, нежели согласиться, однако превозмогайся. И накрепко запомни: самый подлый в ней тот, кто орет громче всех, подзуживая и будоража иных, а случись угроза, удирает первым».
Однако не отважился он совсем уж пренебречь мнением городищенского общества. И пришел Молчан к окончательному решению: оповестить уже в пути. И подумал при сем – в некое самооправдание: «Не я ноне рвался на торг, а они упросили меня. Из-за них сам рискую. Пусть и они за себя рискнут! А оробеют, захотев вернуться, с них и спрос будет. Не стану им возражать и отговаривать. Поелику не я изошел дрожью!».
Где вернее всего ожидать лиходеев, он определил еще ночью, основательно прикинув перед сном. А в начале того осмысления вспомнилось ему, к месту, напутствие Путяты – перед отправкой в Тьмутаракань…
Высказал тогда старший родич:
– Забудь о царьградском конфузе! По младости с кем не бывало. По себе помню: ромейки, они завлекут, кого хошь, и разумом повредишься! А тут еще и не одна была, а в явном сговоре с башковитыми умельцами. Радуйся, что жив остался, ноги унес, да еще наткнулся на того Нечая …
Редкостно встретить подобное везение. Истинно для мя: даже не в рубашке родился ты, а подлинно в доспехах!
Аще в Тмутаракани, а будешь успешен там, и в Киеве, пойдет иначе, чем наметил я, действуй, основательно взвесив!
Наперед же, столкнувшись с непредвиденностью, чреватой, заруби на носу: ежели будет у тебя хоть толика времени пред схваткой с ворогом, поставь себя на его место, рассудив, что сам бы сделал на нем. Сице и угадаешь его коварные замыслы. Большим подспорьем может обернуться сие…
И Молчан последовал мудрому назиданию своего старшего родича, давно уж павшего. Долго угадывал он в бессонной темноте замыслы Жихаря, дважды вставая испить воды. Собрался уже в третий раз отхлебнуть из ковша, а вдруг понял: похоже, угадал.
Место возможной засады не вызывало у него никаких сомнений. Беданов камень – там, где замедлялся любой обоз! Оный Бедан запечатлелся в памяти поселян, проезжавших сим маршрутом, неразумным ухарством, вследствие коего сумел оправдать свое имя бедой, организованной им на собственную выю.
Предыстория из уст очевидцев того ДТП начала одиннадцатого века сильно рознилась в деталях, что обычно и бывает со свидетельскими показаниями. Одни утверждали, что Бедан, едучи во главе обоза и заспорив с Дубыней, ехавшим вслед, чья кобыла резвее, избыточно разгорячился и выкрикивал срамное, другие – что срамцом тогда, напротив, Дубыня был, третьи – что громко сквернословили оба, а четвертые клялись, что Бедан, скареда от рождения, пил из экономии одну воду, исключая разве, когда его угощали.
Однако все сходились, что Бедан, незнамо с чего, заорал вдруг на савраску свою, смиренную, и приступил нещадно охаживать ее кнутом. И заржав с подвизгом, рванула она, чуть подскочив вначале, и понеслась, аки жеребец лихой! А мчащаяся за ней телега подпрыгивала, тарахтела и столь круто кренилась на обе стороны поочередно, что непонятным было, почему никак не перевернется.
И все очевидцы затаили тогда дыхание в недобром предчувствии,
Впереди был единственный на всем пути крутой поворот – с огромным валуном, в двух шагах от дороги. Никто и не пытался выкопать его, перенеся в сторону, ибо реализация сего намерения представлялась заведомо невозможной. А посему все возницы притормаживали, подъезжая. И следовали со всевозможной осторожностью. Все! – за роковым исключением.
Извечное жизненное правило: кто не рискует по глупости, чаще остается цел.
Ополоумевший Бедан рискнул и просчитался. Резко кувыркнувшись в воздухе, выброшенный из телеги, пал он загривком на валун, свернул выю и незамедлительно испустил дух. И осиротела неправедно взгретая савраска, когда встала-таки она, а по бокам ее стекала обильная пена. А сокрушалась ли оная бессловесная животина об утрате неадекватного хозяина, неведомо сие…
– Аще шайка Жихоря поджидает нас – заждется, поди, заерзает! – рассудил Молчан. – Ведь выезжаем с большим опозданием, да и поедем неспешно. Да и не ближний путь до Беданова камня? Могут и пресечь ожидание, решив, что не выехали днесь, либо в последний момент передумали и рискнули-таки ехать ближней дорогой. Однако, допускаю, что будут сторожить, доколе не начнет темнеть.
А с чего решил я, что Жихорь навалится по дороге на торг? Возможно, поторопился с выводом. Придется наново обдумать…
Ежели его ватага и разобьет нас, добыв весь товар, каковая им выгода? Ни на ближние, ни на самые дальние торги не сунуться им с мехами, медом и воском: сразу же скрутят их аки татей! Поелику всех знатных охотников и бортников знают во всей округе и даже далече от нее. Да и умельцы от всяких ремесел тоже известны на всех окрестных торгах, из какового бы городища либо селища они ни прибывали.
И что получит, Жихорь, опричь наших животов, аще уцелеет сам, непременно положив при этом многих своих? В чем барыш для него, а пуще, для его пособников? Ведь они, получится, полезут на нас задарма, животами своим рискуя? Не верю в столь глупых разбойников!
Меж тем, на обратной дороге телеги будут загружены куда мене, нежели днесь. И в основном, провизией, от коей не откажется ни один лесной злодей.
А половина, считай, из наших будет возвращаться и с выручкой, кою легко и увезти, и запрятать, и купить на нее, что захочешь. Ибо не опознаешь по резанам, дирхемам, сребреникам, даже и златникам, откуда взялись они.
Припозднимся либо нет, торг – дело неспешное, быстро тут не управишься. Начнем к вечеру, продолжим наутро, а вернемся, по любому, не ране, чем третьего дня.
А возвращаться будем расслабленными, не помышляющими об опасностях и утратив бдительность. Тут-то им и ловчее напасть!
Будь я Жихорем, выбрал бы именно сие. Хотя не ведаю, умен он или глуп ноне.
На оной здравой мысли его и сморил сон…
– Что притихла-то? – обратился он к Доброгневе, изобразив бодрую улыбку. – Жди третьего дня к вечеру. Ты и соскучиться не успеешь!
– Тревожно мне, – не сразу ответила Доброгнева. – Прямо в сердце защемило. Пустое, конечно, не принимай близко. А все же остерегайся в пути! И помни: всегда я тебя жду, ненаглядный мой…
И так сказала она: «ненаглядный мой», что в душе ее мужа, сурового, чуть ли не слеза навернулась.
«До чего же не хочется отъезжать! – подумал он. – Обнять бы ее сейчас, приголубить! Могу ведь и не вернуться. И останется семья без хозяина и кормильца… Легко быть смелым, когда отвечаешь лишь за себя. А я ноне за них, четверых, в ответе».
И вспомнил он свой самый первый бой, а легко ему было в канун его, отбросив из памяти и родителей своих, и Младу…
XXXIV
Перекусили не избыточно, намеренно не отяжеляя чрева свои до боя. А коней накормили сытно. Водопой им обеспечил ближний ручей, не узкий, с чистым глиняным дном.
Шуй был уже готов в вышний дозор свой, однако Путята придержал его:
– Погодь! Еще успеется. Допрежь рассудим о главном. Собирай всех.
И когда тот исполнил, а собрались еще Невзор, Будимир, Первуша и Берендей, Путята изложил, что задумал.
– Гостей будет боле нашего. Разумею я: двенадесять – сие любимое число у Булгака. Нас, почитай, в половину мене. А иначе и нельзя было.
Елико ни таились мы, окольными дорогами едучи, порой и замедляясь, у Булгака везде в приграничье свои глаза и уши. Донесли бы ему, что едем на тура большим числом, сразу заподозрил неладное.
Молчан, отслеживая и реакцию остальных, мигом приметил, что при упоминании Булгака никто и бровью не повел, явно точно ведая, кто таков.
– Немного вас собрал, но самые вы лучшие! Таковых даже у Булгака нет. – продолжил меж тем Путята. – И трех-четырех из них можно не принимать в расчет. Два-три будут ловчими: немного толка от них в ратном деле.
А един средь иных – мой человек, обратно уйдет с нами, а перед тем – и в бою не оплошает. Буде кто нанесет ему, сгоряча, рану, башку тому оторву! Понеже запоминайте накрепко.
Опознать его легко даже издали: кого бы ни держал под седлом, всегда вплетает в гриву алую ленту – будто бы на счастье; к оному и Булгак давно привык, не заподозрит. Есть и еще верная примета: кистень, притороченный; в охране у Булгака токмо он с оружием сим, коим троих уложить может.
И получается: нас уже почти поровну. А ведь и ударим первыми!
Как ударять будем? Двое со мной во главе рванут отсюда, а пятеро, под началом Невзора, дождутся, пока мимо них гости промчатся.
Тут и вылетим на них, отвлекая, мы с Берендеем. Опешат они от дерзости сей: кто наглецы таковые, что осмелились вдвоем супротив многих? И притормозят чуть, а сие и надобно, дабы успели вы подоспеть к нам. Тут же вмиг различит меня Булгак, а будет он чуть позади двух первых – всегда так ездит из предосторожности. Застит ему глаза и разум злоба, и ринется он!
И наступит твоя очередь, Невзор! Выводи своих, немедля, и вскачь ударяй в спину им, либо, наискось, в бок! – вас они уже проскочат. Верю: продержимся мы с Берендеем до подмоги, ведь норовя сразить нас, будут они мешать друг другу. Да и мой человек завалит кистенем своим хотя бы одного.
Вы же, опричь Молчана, на скаку пускайте в них стрелы – лучше сзади, а не получится, в коней, пока не поднажали на нас вороги, сообразив, что попадают в охват, и надобно им прорываться.
А уж потом колите сулицами их и берите в топоры. Никто не должен уйти!




