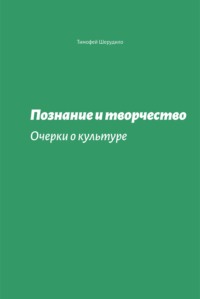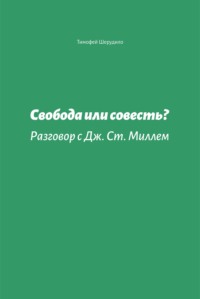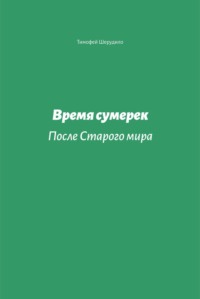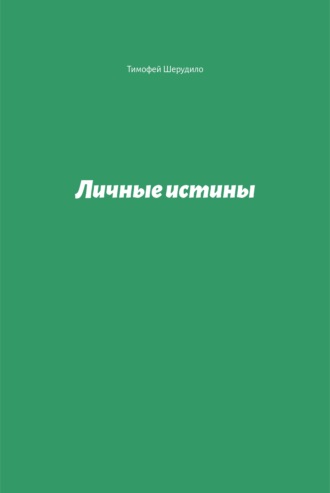 полная версия
полная версияЛичные истины
***
Мнения Шатова («Бесы») о Боге и народе принято считать выражением неясности взглядов самого Достоевского, чем-то подлежащим опровержению. Однако есть какая-то действительная связь между Богом и нацией, которая выражается косвенно – вотношении к ним. Кто не видит Бога, тот (обычно) не признаёт и национальности как другого сверхличного единства. Отвержение Бога и взгляд на народность как на «гражданство» или «особое устройство податной системы» (как насмешливо говорил Достоевский о русских западниках, всё национальное – по сей день, замечу – полагающих недоразумением) – отличительная черта либерала, по меньшей мере, в России. Непризнание одного влечет почему-то и невидение другого, так что Бог и нация в каком-то отношении оказываются действительно нераздельны. Для крайнего индивидуалиста (а либералы всегда были крайними и последовательными индивидуалистами; последовательный либерализм есть мировоззрение одиночки) всё запредельное по отношению к его личности не существует. В этом отношении и нация (другие), и Бог (Другой) для него в равной степени «метафизика», нечто невыводимое из опыта. Шатов, конечно, совершает подмену, говоря о Божестве как «атрибуте нации». Но чутье ведет его верно: как нация, так и Бог суть сверхличные единства, хотя и разного рода, видимые только особым образом направленному взгляду, и оба – дающие жизнь нашим начинаниям, если мы начинаем с Богом и родиной в сердце. Либерализм им полностью противоположен, т. к. есть учение о жизни без Бога и родины.
ІІІ. О внутреннем человеке
***
Есть сладость отчаяния, лучше всего известная детям с их как бы беспричинными рыданиями. Отчаяние замкнуто в себе, не имеет будущего или прошлого, видит в себе последнюю, крайнюю боль и потому ищет последнего, крайнего утешения, с самой острой надеждой ожидает такого утешения. Отчаяние наиболее расположено к вере и чуду, и чудо ему дается.
***
Надежда – добродетель побежденных; победителюне на чтонадеяться. Все благородные битвы ведутся против сильнейшего противника, так что надежда в них уместна. Надеющийся ищет воплотить себя, вложить себя в нечто, чему препятствует его судьба. Победители не знают этой заботы; их стремление – распылить, растратить себя 18 . Только поражение знает подлинный блеск надежд.
***
Чем опаснее вещи, тем больше хочется с ними играть. Это верно не только для детской площадки, но и для человечества в целом. Игрой всегда руководит желание испытать нечто новое (здесь ее родство с познанием, так же, в своем роде, стремящимся всё к новым ощущениям мысли); и чем больше возможностей содержит в себе игрушка, т. е. чем она опаснее (опасность есть именно богатство неизвестных возможностей), тем больше новых ощущений она скрывает.
***
Непонятное вызывает смех либо ненависть, и никогда то и другое вместе. Смех появляется там, где есть уверенность в собственной ценности, в ценности общепринятого порядка, которым ничто новое и непонятное угрожать не может; смех над непонятным свойственен крепкому. Ненависть оно вызывает у слабых и боящихся за себя и привычный порядок жизни; в непонятном и новом они видят угрозу. Отношения народов в высшей степени подлежат этому правилу: здесь ненавидят только тех, кого боятся, и смеются над теми, кого полагают безопасными.
***
Отчаяние обычно связано с верой, даже если и отрицательного порядка. Отчаявшийсяверует, что более ничего не будет; отчаяние имеет силу придавать красоту делам творящего, потому что в него, как и в веру, вложена сполна его душа. Только безразличие чуждо красоте и истине; но вера и отчаяние ведут к одной цели.
***
Печаль – человеческое чувство, а тоска – животное. Печаль – чувство того, кто шел к цели, и уже видел ее, но не дошел чуть-чуть; печаль – знание о недостижимой цели; а тоска – неосмысленное страдание; ужас, уверенный, что никакой цели и нет.
***
Конец света имеет значение как угроза и ожидание, не как событие; ведь и смерть существует для личности только в качестве ожидания. (Кстати, легкомысленно отрицать конец светаи как событие только потому, что он ни разу еще не случился…) Как ожидание, конец света – основа, на которую накладываются краски истории. Без него история была бы бесконечной, т. е. никогда не имеющей итогов.
***
Жизнь народов и личностей определяется их представлением о непредставимом. Иначе говоря, в отношении неразрешимых вопросов непременно следует вести себя так, будто они разрешены. Порочно только желание уклониться от этих вопросов, представив их несуществующими или неразумными. Представления о немыслимом коренятся прежде всего в религиозном вдохновении; оно само по себе незыблемый факт, но прерывно и неравномерно. Даже религиозный гений в иные времена толькознает о содержании своих вдохновений; целые эпохи могут быть их лишены.
***
Мечтательность, вообще способность мечтать, – не признак душевного застоя. Мечты суть движение, но только скованное. Если спросят, что лучше: научить людей движению, действию, или мечте, я скажу: сначала мечте, потом из нее выйдет дело. Мечтатель вовсе не обязательно неудачник; он тот, из кого может выйти как неудачник, так и его полная противоположность.
***
Познание душевной жизни имеет в виду если не пользу, то заботы познающего. Говорящий о душе говорит о себе и уж точно для себя. «Душа» всегда «своя», чужая душа приоткрывается только в любви, и то немного. Вопрос: «что пользы… если душе своей повредит?» – исключительно личный вопрос, и ошибочно видеть «моралиста», то есть учителя нравственности, в том, кто такой вопрос задает.
***
Победители нуждаются в оправдании своих побед, оттого ярлык «правого дела» налагается на сильнейшую сторону. Как это ни странно, они знают, чтосила без правды постыдна, и испытывают беспокойство, пока не найдут себе нравственного оправдания.
***
Тело дается человеку для любви и смерти. Чувственно одаренные натуры в то же время остро чувствуют свою смертность; они знают: смерть придет оттуда же, откуда приходило наслаждение… Способность к любовным восторгам и смертным страхам – одна и та же. Кстати – эта мысль не имеет никакого отношения к предыдущей, но должна быть высказана, – любовь не «взаимное удовольствие»; напротив, часто ее можно определить каквзаимное мучение при невозможности расстаться.
***
Для ребенка нет происшествий, но только приключения. Он настолько мал, что всякое событие поглощает его вполне. Взрослый, напротив, видит только происшествия; он считает себя слишком «большим» для того, чтобы происходящее могло его захватить. Однако человекникогда не бывает «большим» настолько, чтобы события помещались в нем, а не он в событиях. Ребенок прав.
***
Счастье тем отличается от удовольствия, что жажда счастья проводит человека через страдания, а жажда удовольствия – только через удовольствия. Огненная, поющая жажда счастья – сестра страдания. Удовольствие и тяга к нему не учат; эта способность есть только у счастья – и горя, стоящего на пути у того, кто ищет счастье.
***
Только обиженные бывают проницательны. Чувства уязвленного человека обострены. Победители могут позволить себе слепоту, в том числе нравственную, их «не судят», а вот обиженный всегда себя судит.
***
«Он прожил жизнь» и «он познал жизнь» говорится о двух разных людях. Проживший не познаёт; познавший до самого конца будет тосковать о том, чего не испытал. Широта опыта обратна его содержанию. Люди дела не нуждаются в заключениях; они знают: «как», и не спрашивают: «зачем». Парадоксалист сделал бы отсюда вывод о превосходствебезопытного мышления. Я скажу только, что неудачи на пути приобретения опыта обычными путями – полезны.
***
Подвергающий опасности свою жизнь испытывает то же пьянящее ощущение щедрости, что дающий без меры. Высшие душевные движения опьяняют. Отсюда соблазн счесть опьяняющие движения высшими, даже и пристрастие к вину как замена высшей внутренней жизни. Я, конечно, говорю только освободном распоряжении жизнью.
***
Щедрость – добродетель бедняка. Богатые вообще так устроены, что у них уже есть награда за все возможные добродетели. Они дают от избытка, собственная щедрость их не ранит, а ценны в нравственном смысле – не скажу:тольконанесение себе ран; но: всякий поступок, в котором человек соперничает с жизнью как бы на равных при заведомом неравенстве сил. У богатого же слишком крепкие тылы во всяком столкновении с жизнью. У мужества нет брони; а где броня, уже меньше или вовсе нет мужества.
***
Легкомыслие есть неспособность чувствовать себя несчастным. Как говорит Паскаль, смерти следует бояться, когда она далеко, а не тогда, когда она рядом. Это значит, что глубокомысленный Паскаль именно советует быть легкомысленным.
***
– Борьба с собой почетна; борьба с другими – не всегда.
– Почему так?
– Борьба с самим собой всегда борьба с сильнейшим противником, а вот вне себя мы обычно выбираем слабейших.
– Так не разумнее ли примириться?
– Мириться вообще неразумно, по меньшей мере, в тех случаях, когда между сторонами не может быть искреннего мира. Только те, кто не примирился, получают возможность проявить мужество.
– Но нужно ли быть мужественным? Разве мужество не добродетель тупых силачей? Не лучше ли быть довольным?
– Мужество сладко для души, следовательно, необходимо. Лучшего довода у меня нет. Я верю в мужество, вот и всё.
***
Из опыта напрашивается вывод: не все люди обладают душой, следовательно, слово Божие обращено не ко всем, и «смерть» для разных людей имеет разный смысл. Тогда объясняется и упорный атеизм некоторых, естественный для существа без души. В таком случае оба свидетельства о человеческой природе истинны.
***
Знаменитое паскалевское «пари» на существование Бога и жизни вечной несостоятельно психологически. Человек не в состоянии жить в непрерывном раздвоении, раздираемый противоречивыми ожиданиями, как тот, кто подбрасывает монету. «Пари» возможно не как отношение к миру, но только как способ определиться по отношению к миру. Однако всякое пари взывает к случайности; так и вера, добытая столь случайным путем, была бы шатким основанием жизни.
***
Желания «устроиться в жизни» и понять жизнь взаимно враждебны. Тот, кто ищет познания, то есть правды, никогда не будет «устроен». Только закрывая глаза на природу вещей, можно извлекать из них пользу. Давно сказано: «чтобы преуспеть, нужно быть поверхностным или прямо глуповатым». Под внимательным взглядом вещи обретают смысл, но теряют способность приносить пользу. То же самое можно сказать о красоте. Красота бесполезна для тех, кто способен ее видеть; вожделение и насыщение по отношению к красоте возможны только там, где ее не заметили.
***
Страх и угроза – воспитатели достоинства, как это ни странно звучит. Достоинство проявляет себя в Иове перед Господом, в Давиде перед Саулом, всегда в малом и угрожаемом, в противостоянии слабого внешней неотклонимой угрозе. Необходимо поэтомууметь бояться; бесстрашный не возвышается до своей опасности, разве только он выше ее. Но большинство опасностей выше человека, так что надо уметь возвышаться до них, то есть бояться и преодолевать свой страх.
***
– Все разговоры о «смысле жизни» ложь. Жизнь бессмысленна; смысл ей только приписывается впоследствии.
– Цель жизни достигается (или по меньшей мере преследуется) в постоянных отступлениях от нее, и часто бывает скорее воспоминанием, чем действительным смыслом приложения усилий. Какая часть сил Достоевского или Пушкина растрачивалась впустую? Смею думать, немалая. Их принято считать грешниками, но грех есть забвение цели и только оно. Не имеющий цели не грешит, он только существует, но вне нравственных и религиозных оценок…
***
Обещания, поскольку даются людьми, постольку лживы. «Он обещает» почти равносильно словам: «Он лжет». Распоряжаться будущим, говоря: «Я сделаю», – признак самонадеянности, поэтому сильные мира сего наиболее склонны к обещаниям: они чувствуют в себе силу распоряжаться и временем. Но чаще время распоряжается ими.
***
Высшие чувства глуповаты. Презрение циников к «сентиментальности» оправданно: по-настоящему «умно» только давить и топтать. Сострадание бесполезно сострадающему, циники это хорошо знают. Вся их мудрость заключается в сбережении чувств: в лучшем случае они готовы расходовать эти чувства на себя самих. Ведь циники не бесчувственны: большинство из них боится смерти, но толькособственной смерти; на чужую у них уже не хватает сил. Поэтому мысль о чужом страдании они называют сентиментальностью.
Кьеркегор прав: как вера, так и мудрость – проявления страсти. Бесстрастный мудрец – такая же чушь, как бесстрастный святой. Бесстрастен только циник, берегущий душевные движения для себя одного. Потребительская религия тепленьких удовольствий воспитывает бесстрастие гораздо успешнее, чем аскетические исповедания; она учит направлять душевные силы только на малое, то есть в конечном счете воспитывает ничтожность душевных движений, в то время как аскетическая вера, напротив, учит вкладывать душу только в великое, не отвлекаясь на пустяки.
***
Нужно иногда быть и «фанатиком», то есть уметь признавать превосходство вещей, которые вданное мгновение не могут за себя постоять. В известные времена в хорошее можно только верить, то есть фанатично противостоять видимости.
***
Неудержимость движения отчасти свидетельствует о его достоинствах, то же относится к произведениям искусства. Нечто неудержимо распространяющееся непременно содержит в себе некоторую истину, даже если эта истина совсем не в том, что сие движение полагает главным.Сила не дается напрасно.
***
Метафизик сказал бы: «Силе в этом мире дана победа без вечности; правде – вечность без победы. Красота есть облик истины; ей так же принадлежит вечность без силы. Это значит, что истина и красота гибнут первыми и воскресают последними в этом мире; но такова уже особенность нравственной жизни: служить следует не самым сильным повелителям, и даже прямо отказываться от прислуживания сильным».
***
Нет ничего полезнее для развития, как сталкиваться с неразрешимыми противоречиями и непреодолимыми препятствиями. Я даже сказал бы, что это единственный способ прибавить в росте, если только душевная высота (то есть дальность взгляда) имеет ценность. Разумеется, все эти вещи не хороши для того, кто хочет прожить жизнь, не заметив ее…
***
Остроумие и способность любить связаны. Иначе говоря, остроумие естьэротическая способность. Как и любовь, остроумие есть способность находить великое в малом; остроумие извлекает из связи предметов больше, чем они порознь в себе содержат. В сущности, это определение любви: любовь также извлекает из связи двух душ больше, чем они порознь содержат.
***
Жизнь личности всегда осмысленна и согласна с тойличной истиной, о которой говорит Гершензон 19 ; но сама эта истина доступна душе слишком редко; гораздо больше света и покоя душе известно чувство стремления по темной реке… На высотах, на которых говорит с человеком Личная истина, ничто не страшно; все противоречия примирены; неразрешимые вопросы содержат в себе решительные ответы… Но вне одержимости вдохновением даже поэту остается только воспоминание, то есть холодное знание об огненных истинах.
***
Смелость есть нежелание думать о последствиях; благородство – нежелание верить дурному о других; надежда – нежелание знать правду о своем будущем. И в благородстве, и в смелости, и в надежде личность восстает противвероятности; нежелательное и дурное ведь является наиболее вероятным. Человечность и религия обращаются только к невероятному; «положительное знание» хочет знать только о вероятном и закономерном. Однако нет ничего невероятнее Бога, вселенной и души.
***
Мистицизм – расслабление духа. Не случайно кн. Мышкин называл себя «материалистом»… Томление по вере мистику дороже веры; его можно сравнить с влюбленным, который ценит эротические переживания выше любви; но такой влюбленный больше всего любит самого себя.
***
Дети обязаны родителям не послушанием, а любовью. Доводя мысль до предельной остроты, можно сказать, что родителей следует любить и не слушаться. Это совсем не то же, что свойственное подросткам «не слушать и не любить». Здесь есть сходство с отношениями человека к Богу: все мы Ему обязаны любовью, но мало кто может назвать себя послушным сыном; человек по отношению к Богу даже всегда отстаивал право заблуждаться, известное также под именем свободы исследования. В этом есть положительный смысл: ведь правда – то из мнений, которое не поддается опровержению опытом; опыт же представляет собой череду ошибок. – В противоположность господствующему мнению надо заметить, что ошибки не ценятся сами по себе, но только в меру одушевляющей их любви к истине. Христос столько говорит о грешниках не потому, чтобы они и их ошибки были хороши сами по себе, а потому, что иные из них способны воззвать к Истине: «Верую, помоги моему неверию!»
***
Страдание есть неудовлетворенность существующим. Возвращение человека в мир животных (цель, которой задалась современность) должно начинаться с уничтожения способности страдать, то есть с распространения вседовольства. Мера очеловеченности – способность сказать: «Я не хочу быть тем, что я есмь». «Я не хочу» – признак высокого душевного развития. Человек вступил в отношение с Богом (по первоначальному смыслу русского слова, с Судьбой) только тогда, когда начал Ему противоречить. До того он был только частью Бога, после стал Его сыном. Дети всегда противоречат родителям, и это пропитанное любовью противоречие – смысл их бытия. Пока не было противоречия, не было и человека.
***
Вещи занимают в жизни известное место, и чем прочнее и сложнее вещи, тем более призрачной делается душа. Настоящая свобода душевного развития была известна временам, почти не знавшим сложных и многочисленных вещей. Простой труд не только не исключает сложных мыслей, но как будто способствует им; всеобщему усложнению труда в наш век сопутствует упрощение мыслей. Машина, как предмет поклонения современности, – крайняя точка этого движения: при неимоверно сложном труде она не производит ни одной мысли.
***
Надежда рождается в тесноте и бедности, в которых нет места для ожиданий. Ожидания полнокровнее и шире надежд, потому что нацелены на возможное; надежду занимают только невозможности, ее можно назватьбезрассудным ожиданием. Разумность должна бы проявляться в отсутствии надежд и только в самых умеренных и надежных ожиданиях, потому-то животные и не надеются: они для этого достаточно разумны. Человека возвышает над зверями не разум, но способность действовать и направлять свою душу (то есть надеяться, верить и ненавидеть) вопреки ему.
***
В отношениях между полами непорочность – лучшая приманка. Ее непременно пытаются совратить, и в успехе видят заслугу. Однако удовольствие совратителя – второго сорта, как всякое удовольствие разрушения, творческое счастье наоборот. Разрушают часто не потому, что не видят ценности предмета (на это способны только дети), но потому, что хотят к ней приобщиться, увеличить свое достоинство за счет разрушаемого. Так древний завоеватель говорил: «Смотрите, как я неслыханно велик: я разрушил то-то и то-то, и другое не устояло передо мной!» Беря вопрос шире, можно сказать, что кощунство всегда заимствует свою ценность от попираемой святыни; поэтому оно действенно, только пока святыня жива. «Бог – единственная опора и оправдание атеизма».
***
Опасности, испытания и тревоги страшны не сами по себе, но только взятые отдельно от надежды. «Пусть будет темно, страшно и холодно, но только бы впереди был огонек!», так рассуждает душа. Мало или почти нет вещей, которые были бы ужасны сами по себе, но есть такие, которые закрывают (или нам кажется, что они закрывают) путь к будущему. Их-то мы и боимся.
***
В важнейших вопросах душевное самоопределение неизбежно, а прямые и тем более окончательные суждения – невозможны. «Между суждениями: “Есть Бог” и: “Нет Его”, – говорил Чехов, – белое заснеженное поле», и в этом поле оставаться невозможно – замерзнешь. Жизнь требует от души внутренней определенности в этих вопросах, но всякое твердое слово о них тут же становится ложью. Святыня вообще есть то, что не терпит о себе речи.
***
Не просто нужно обладать будущим, но им нужно обладать в каждую минуту. В будущее нужноверить; знать о нем совершенно недостаточно. Каждый знает, что у него, скорее всего, есть сколько-то времени впереди, но такое знание не спасает от тоски. Нужно еще и надеяться, то есть переживать заранее хотя бы часть будущих событий, и не обязательно радостных – «пусть будут какие угодно, лишь бы только были!»
***
Всё неизвестное тайно и прекрасно; прекрасно, потому что тайно, то есть исполнено неизвестным внутренним смыслом. Красота есть причастность к тайне, то есть к смыслу;тайна сама есть смысл. Мир без тайн, весь пронизанный познанием, потеряет и прелесть, и глубину.
***
Есть удовольствие во всяком противодействии, в проявлении душевной упругости вообще. Для своего здоровья душе нужно стремиться и преодолевать. И счастье дается чувством непрерывного внутреннего движения; и смерти мы боимся как остановки стремлений; того же корня тяга к внешнему движению и пространству, вообще к воле и широте.
***
Чем более низменно объяснение, тем больше в нем видят правды. Говорит ли это о низости истин или о низменности умов? Материализм в общепринятом смысле есть искусство низменных объяснений. Психологически и нравственно он покоится нанеблагородстве, т. е. способности верить дурному. Иначе нельзя объяснить внимание, которое материализм уделяет всему стыдному и принижающему человека. Играя словами, можно сказать, что из всех суждений он признаёт только осуждение, и из последнего делает всеобщее охуждение. «Только дурное, – то есть то, что противоречит высшим желаниям и ожиданиям человека, – и есть правда», так можно выразить этот взгляд.
***
Личность, вполне отдающаяся наслаждению, со временем упразднится. Удовольствия имеют уничтожающий характер. Оглушенная ими личность перестает откликаться на зов души. Высшие душевные удовольствия, несмотря на свое название, мало имеют общего с низшими. В них обычно растворена доля чего-то совсем несродного чистому наслаждению. Таково переживание красоты, в котором неотделимо присутствует печаль. Душевные радости – радости чистые, в них нет «темной сладости», избавить от которой просит молитва в словах:«И соблюди насъ отъ всякаго мечтанiя, и темныя сласти кромѣ».
***
Способность разочаровываться говорит о низости или усталости ума, тогда как в ней видят спутницу развития и познаний. Разочарованный утомился познанием, но это не значит, что он что-то познал. Он всюду видит повторение и для него «нет ничего нового под солнцем», но смыслом обладают тольконеповторимые предметы, так что разочарование убивает смысл. Он, может быть, и прячется в вещах, но разочарованный и усталый его не увидит. Для поэта и философа, напротив, все вещи случаются в первый и последний раз, только потому и осмысленны.
Мудрость разочарованного – самоутешение отказавшегося от дорогого подарка, который чувствует соблазнительность дара, но принять не хочет или боится. Он отходит, внутри сожалея, а вслух рассуждая о никчёмности дара. В ядовитой мудрости отказавшихся – зависть к принявшим дар.
***
Всё прекрасно, а посему осмысленно. Лучше всего это знает молодость, для которой прекраснопросто быть. Призрачен ли этот смысл? Творчество им вдохновляется, не задумываясь над этим; кажется даже, что другого вдохновения, кроме идущего от этого смысла, и нет.