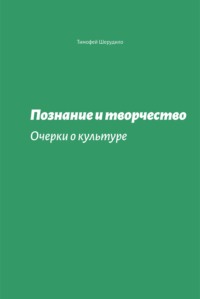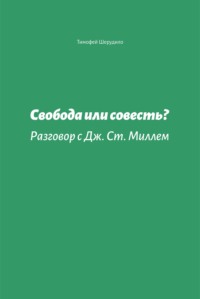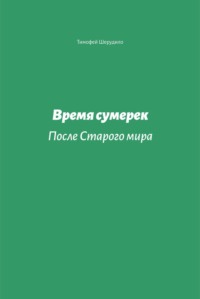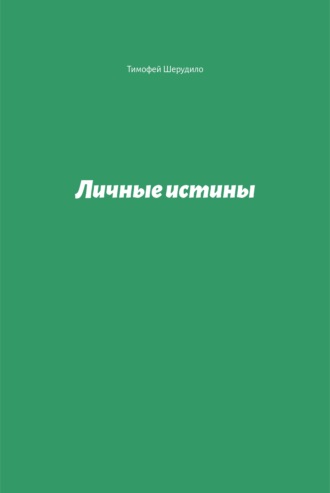 полная версия
полная версияЛичные истины
Что дальше? Либо мы вернемся к вере в действительность нас самих, либо потеряем силы существовать. На признании собственного бытия иллюзорным не может держаться никакое существование – всё для него, и самое сладкое, и самое высокое, будет отравлено смертельным ядом; всё и во всём – будет смерть. Нам нужна жизнь.
***
Я раньше говорил, что Розанов дал писателю свободу. На самом деле, это Достоевский своими «Записками из подполья» сделал возможными и Розанова, и Льва Шестова. Разумеется, Достоевскому еще приходилось притворяться. Ему, например, пришлось сделать «Записки» исповедью «дурного человека», ибо кто же, кроме дурного человека, может сомневаться в материализме и социализме?.. Иначе бы читатель не принял философской первой главы «Записок», причем не просто «философской», афилософско-личной, высказанной от первого лица, а не от условного «мы», затянутого в мундир, начинающего с обязательного анализа и кончающего неизменным синтезом, над которым впоследствии так издевался Шестов: «Равняйсь, гляди веселей! Синтез, общая идея идет!» Читатель привык к философии, которая кончалась бы успокоительной «общей идеей», и, напротив, совершенно не готов к философии, которая вообще ничем не кончается. Критика и сомнения дозволяются только в качестве основы здания, которое – будучи возведено – уже избавит от необходимости критики и сомнений. Впрочем, это одна из мыслей Подпольного человека… Этот путь к философии без «последних выводов», к правдивому выражению отношения моей, именно моей души к мирозданию и расчищал Достоевский.
***
Наше «знание человека» есть всегда, при самых лучших намерениях – знаниеодногочеловека. Мы знаем себя и только себя, и глубина наших познаний определяется единственно глубиной нашей собственной душевной жизни. Когда гр. Толстой говорил, что «мужчины – похотливые самцы», что «любовь есть удовлетворение постыдных потребностей» и проч. в том же роде, он имел в виду только то, что единственный известный ему человек – гр. Л. Н. Толстой – смотрел на отношения полов именно так. К высказываниям о человеческой природе следует относиться с большим вниманием, но и с большой осторожностью – смотря по тому, от кого они исходят.
***
Сам по себе избыток жизни творчеству не благоприятствует; творчество исходит из некоей прохладной глубины, скрытой под блеском и полнотой жизни. Творчество всегда естьвзгляд со стороны. Его корни в задержанном переживании, разрыве с действительностью – ведь существование, лишенное такого разрыва, будет существованием растительным или животным. Творчество есть второе творение: воссоздание рядом с блистающим и огромным видимым миром второго мира, в котором очищается, просветляется и наполняется смыслом первый.
***
Всем своим излюбленным мыслям Розанов находит основание в Ветхом Завете, однако читает его весьма избирательно. Слов: «Странники и пришельцы мы на земле» он в Ветхом Завете не замечает, а они совершенно противоречат розановскому замыслу «стянуть» все святыни и жизненные цели «на землю». Он, правда, делает оговорку в том смысле, что и в половой стихии проявляется нечто небесное16 .Но по существу из его проповеди следует только, что все святыни – здесь и сейчас, и ценности – здесь и сейчас, и Бог – тоже здесь и сейчас. Горизонт замыкается в узкий, узкий круг. Жизнеспособность и сила этого мировоззрения манит Розанова, как мотылька огонь; и, летя на свет, он не замечает, что стремится назад, в прошлое, в эпоху непробужденного духа. Ведь дух – подвижность, выход за пределы себя, семьи, родины; связь со всем миром, а не только «своими кровными»; постоянная неустойчивость, возможность упасть или полететь. Как раз потому, что дух почвы себе в мире не видит, а конечной цели не знает, у него могут быть цели, находящиеся за пределами его самого. Он подвижен, поскольку неукоренен в земном, не принадлежит ни к чему на земле и чувствует родство со всем. «Религия зачатий и рождений», проповедуемая Розановым, ниоткуда не исходит и никуда не ведет, вся на земле, в Боге видит темную силу, говорящую с человеком языком страстей и в минуту человеческой страсти – и весьма мало нуждается в человеческой душе. Что такое душа рядом с родом, вереницей зачатий и рождений, величественных именно в своем безличии? (Ибо стоит обратить внимание на личное, неповторимо-душевное, как история перестает быть «историей рождений» и становится историей духа 17 .) Это мировоззрение не указывает человеку никакой цели на земле и за ее пределами, кроме как быть средством для продолжения священного Рода. Личности при таком взгляде остается очень мало места, ее удел – постоянная скорбь, по меньшей мере, с того часа, как она выполнила обязанности, нужные Роду. Эта мысль и отравила «Уединенное» и «Опавшие листья»
Заслуга Розанова не в том, что он открыл новые пути человечеству (этого не было); не в том, чтобы он нашел новые ответы на вечные вопросы (хотя ему так казалось); но в том, что он увиделновые вопросы там, где их прежде не видели. Он не «пролил новый свет», но во тьме увидел шевеление чего-то еще более черного. В этом его действительное достижение В области мысли это обыкновенно. Найти новые вопросы не менее почтенно, чем дать новые ответы – может быть, даже более, т. к. вопросы существуют от века, это нечто подлинно сущее, в отличие от наших ответов, которые – в конце концов – чаще всего только измышления человеческого ума. Существование вопросов, если так можно сказать, более несомненное, и своевременно найденный вопрос имеет больше влияния на развитие мысли, чем дюжина ответов на давно известную тему. Те из нас, кто ставит человечеству загадки, в конечном счете значительнее тех, кто снабжает его разгадками и решениями, притом чаще всего относящимися к техническим удобствам жизни…
***
Величие Достоевского не в его уме. Его человеческий ум как раз был склонен ошибаться, как и всякий другой. Величие Достоевского было в том, что он умел прислушиваться к своемубезумию, не заглушать его речи лепетом самоуверенного ума. «Переступить через разум способны одни лишь гении и идиоты», говорит у него, кажется, Ставрогин. Здесь смысл деятельности Достоевского, а не в «гуманных идеях», внушенных ему разумом. Все последующие русские мыслители были велики настолько, насколько умели говорить от своего безумия, иначе сказать – насколько они были поэтами, имея в виду не склонность поэтов растворяться в сладких ощущениях, но их приверженность к истине, даваемой непосредственными чувствованиями души. Если мы чему-то можем научиться у Достоевского, так это тому, что существует могучий источник истин, совершенно независящих от разума и не подтверждаемых разумом, и что этот источник и есть действительная природа человека – его душа. Слушать свою душу можем научиться мы у Достоевского, и более ничему.
***
Разум есть сила рассуждения, с ее «если так, то…» Но жизнь не может искать своей основы в условных рассуждениях; она не может основываться ни на каких «если», потому что не имеет в себе проверяемых условий. Всё непроверяемо, кроме вещей маловажных, поскольку дается только один раз: рождение, смерть, гений, злодейство… Во всёмважнейшем и опаснейшем нет места рассуждениям. Наш выбор в этих областях либо неразумен, либо глуп. Да-да, только так. Либо мы слушаем голос правды и красоты, либо уже ближайшие потомки смеются над нашей беспросветной глупостью, как мы смеемся над Писаревым и Зайцевым, которые ко всему старались подойти «разумно», и потому во всём оказались в образцовых глупцах. Нет никакой «принудительной истины», кроме той, какая стучится в наше сердце. Пушкин прав, а Писарев нет: здесь ничего нельзя доказать, можно только почувствовать. Следовательно, никакой уверенности, никакой поблажки любящему похвалу разуму – до конца наших дней. Так уж устроен свет: опровергнуть можно, опровержения громоздятся до небес; доказать – нельзя. Разум бесподобен в качестве силы сомнения и опровержения, но ничтожен в качестве указателя истины. Истина, указываемая разумом, меняется с каждым поколением, но, надо заметить, это не мешает ей сохранять крайне самоуверенный вид… Вот еще одно внутреннее противоречие: путь разума – путь условных истин, и в то же время кратчайший путь к умственному самодовольству. Никто не был так самозабвенно и безосновательно уверен в себе, как поклонники этого нового божества. И однако, от всех своих поклонников разум требует прежде всего глупости – иначе не соглашается даровать им уверенность и покой. У разума можно спрашивать о чем угодно, кроме того, что имеет для нас действительное значение. Его выводы любопытны, но совершенно неважны для души. У него замечательный дар к сомнениям, еще больший – к опровержениям; но на вопрос об истине он, с видом скромного всеведения, отвечает, что истина недостижима.
И что же нам делать?
***
Мудрость – умение мыслить и говорить обистинно сущем, т. е. не о том, как вещи называются, а о том, что они собой представляют. В этом качестве она противостоит повседневной образованности, играющей с именами вещей без внимания к их смыслу. Это глубокое и неисцелимое противостояние. Мудрость мира знает названия всех вещей, не желая ничего знать об их истинном значении, и насмехается над мудростью настоящей, видя в ней только самонадеянность и причуду, если не безумие.
***
Поневоле подумаешь: истина есть то, что не признаётся большинством людей в каждую данную эпоху, и наоборот: ложь есть мера всеобщей уверенности. Однако не все времена одинаковы. Во дни развития и подъема это правило перестает действовать, и истина становится центром, точкой сосредоточения, на которую направлены все усилия… Такие времена остаются в истории как эпохи полудня и успеха во всём, радостного движения, бодрости и полноты. Нам досталось иное время, время сумерек и вороньего крика, время охлажденности и солнца, катящегося за край неба. Истина не исчезла. Бог – не умер. Исчезаем и умираем именномы, поколение, предавшееся лжи, но по свойственной нам гордыне принимаем собственный упадок за «сумерки богов», тогда как это наши сумерки и наш Страшный суд.
***
Разуму тем легче играть понятиями, чем больше он уверен в бессмысленности мироздания и безответственности суждений. Игра словами затрудняется, как только мы понимаем, что эти словаимеют вес в веке настоящем и будущем. И наоборот, «массовая культура», с ее убежденностью в случайности и относительности ценностей, возможна только в условиях безрелигиозности масс. Демократия оказывается неразрывно связанной с атеизмом. Нельзя не видеть этой связи. Либо есть первоначала, перво-истины, по которым меряются все остальные, либо нет. Если нет – истина либо отсутствует вообще, либо отдается в зависимость от (якобы) «свободного состязания» и (якобы) «свободного выбора». Почему я говорю: «якобы»? Потому что это состязание и этот выбор «свободны» с поправкой на развязанные руки зла и лжи – и на неспособность масс к верному выбору в области нравственных вопросов. И на противоположной стороне, однако, нет покоя. Вера в Бога, позволю себе сказать, означает не «покой» и тем более «блаженство», как говорил протестант Гегель, но томление по правде, вечное алкание правды в мире, где ее – в иные времена – почти нет. Никакого спокойствия она не дает, но зато, кроме прочего, учит нас трезво судить, быть ответственными и понимающими свидетелями и участниками событий…
***
Говорят: «он был мудр, потому что он много знал». Неправда! Познание не приближает к мудрости. Несколько ближе к истине было бы суждение: «Он был мудр, потому что он много думал», но и это не вполне верно. Мысль сама по себе также не ведет к мудрости, и есть множество вопросов, размышления над которыми упражняют наши мыслительные способности, не делая нас мудрее. Мудрость дается только размышлением над тем, что важно для души, сосредоточенной душевной жизнью, в которой мысль неотделима от переживания и нравственной оценки, прежде всего – оценки самого себя. Мудрец никоим образом не моралист, п. ч. моралист печется о других, а мудрец, как говорил Отто Вейнингер, думает «о себе и для себя», и только поэтому, глубоко погрузившись в свою душу, приходит к общечеловечески важным выводам. В мышлении нужно быть «эгоистом». Кто волнуется о других и мало думал о себе, сможет быть лишь возвышенным пустословом. Мудрость рождается из предпочтения внутреннего внешнему и своего – чужому. Чтобы произрасти, ей совершенно не нужно что-нибудь изучать, ведь она не стремится к власти, изучение же вещей есть первый шаг к власти над ними, а мудрец если и мечтает о власти, то разве только над самим собой.
***
Мудрость противостоит не просто науке, носистеме как основе научного мышления. Мудрость есть глубокое знание о немногом; всеохватная мудрость бывает только в сказках; система же, по своему существу, всегда тяготеет к всеохватности и не стесняется быть поверхностной. При всей полезности систематического мышления оно не всесильно, у него есть своя, довольно узкая область. Система упорядочивает вещи для того, чтобы удобнее ими пользоваться, иначе говоря, система есть мышление об орудиях и средствах. Отсюда технические успехи новейших времен. Однако, как только речь заходит о вещах, которые не могут быть орудиями или средствами, система немеет. Все ее приемы оказываются бесполезны для суждения о таких вопросах как душевная жизнь, культура, религия. Сокрушительная неудача науки о душе, незаслуженно завладевшей титулом «психологии», тому свидетельство. Нужно признать, что значительная часть умственной культуры должна быть посвящена суждениям о вещах, которые систематического знания о себе не терпят. Только на этом пути можно достичь чего-то осмысленного в познании человека и в построении общества, на таком познании основанного. Иначе – господство (уже наблюдаемое нами) лживых схем, тем более последовательных, чем более далеких от истины.
***
Если бы я был позитивистом (каковым безусловно не являюсь), я был бы вынужден признать странный для меня, но неоспоримый факт: что хоть какой-нибудь ясностью зрения, дальновидностью, не говоря уже о способности предвидения, обладают только люди, которые на человека и его дела смотрятрелигиозно. Над пророчествами русских либералов-материалистов-атеистов времен Достоевского можно только смеяться; Достоевский же, с его религиозной тревогой за человека, и поныне достойный собеседник. Будучи позитивистом, я вынужден был бы осторожно признать, что определенные верования лишают всякой прозорливости в человеческих делах, и, как правило, это верования, тесно связанные с «наукой», «разумом» и «прогрессом». Т. н. «передовые убеждения» как правило лишают способности мыслить, к такому выводу пришел бы мой воображаемый позитивист, тем более посмотрев на длинный ряд прозорливцев от Пушкина до Розанова: всё патриотов; всё теистов; всё консерваторов, за исключением юношеских метаний. Таков факт, для позитивиста – вещь непреодолимая; потому-то, однако, позитивизм и вышел нынче из моды, как убеждение, обязывающее к чересчур большой серьезности. Ведь если позитивисту, в добросовестно изучаемой им внешней действительности, встретятся факты, которые заставят его задуматься – он может и переменить свои взгляды, как это и произошло, например, с П. Струве. Современные же обстоятельства благоприятны для ученых совсем иной, более безопасной породы – такой, которая не задумывается, каковы бы ни были и что бы ни говорили факты.
***
Есть область знания, которую мало кто признаёт в наше время –вненаучное знание. Возникает оно не путем изучения, а путем переживания предметов жизни, причем как правило – связанных с человеком и человеческим, п. ч. переживать безразличное человеку – нельзя. В этом его главное отличие от науки, которая не только занимается безразличными предметами, но и собственное безразличие вменяет в себе заслугу, зато и наказывается неспособностью познавать человеческое. Искусство почти целиком, в той части, которая не относится ни исключительно к belles lettres, ни к балагану, принадлежит области вненаучного знания – и говорит о человеке полно и глубоко. Сказанное не значит, что я требую «освобождения от наук» – ничуть, – но только признания того, что существует обширный мир (уж произнесем это слово) иррационального, которое никогда не улавливается сколь угодно частыми сетями научного знания; которое всегда будет прорехой на покрывале любой «системы», наброшенной на мир; суждения о котором с точки зрения «положительного знания» всегда будут поверхностны и не метки.
***
Конечная и недостижимая цель познания – принять всё мироздание в себя, то есть увидеть Бога и познать блаженство. Если разум денно и нощно трудится над своим аналитическим рукодельем, разнимая всё на составные части, то более глубокая и первоначальная сила в человеке жаждетцельности, мечтает о синтезе. Отказаться от удовлетворения этой потребности, увлечь человека на пути разнимающего мышления и поисков силы – возможно, но ненадолго. Нежелание цельного знания, склонность методично разнимать и резать живые понятия во все времена были признаком сухости и поверхностности мышления. Не череда рождений перестала приносить людей с потребностями духа, но внешние обстоятельства враждебны этой потребности и поощряют всё рассудочное и потому мелкое и упрощенное. Если в нескольких поколениях кряду не проявляется жажда синтеза и способность к синтезу, это не говорит о том, что они (и эпоха) стали «выше» обобщений, но только свидетельствует о крайне неблагоприятных обстоятельствах. Которые, надо думать, когда-то же пройдут…
***
Нельзя сказать, чтобы люди были глупцами – отнюдь нет. Но господствующее мировоззрение, дух времени и места вынуждают их если не быть глупцами, то мыслить и действовать, как глупцы. Общее согласие есть не «мера истины», как мечтал Руссо, но мераудобных обществу заблуждений. Истина есть всегда и только режущая кромка, острие копья – всегда в разрыве со спокойствием и согласием, всегда без признания, всегда в борьбе. Желанное общее признание дается только ценой притупления острых мест, смены ударений, подмены ценностей – или, что бывает чаще, достигается теми взглядами, которым изначально не хватало того, что Ницше называл «благородным инстинктом истины». Нет, люди не глупы. Но острота ума и дальность взгляда проявляются тем больше, чем дальше они от людского признания. «Пошло̀, – говорил Мережковский, – только то, что по́шло». Правда нисколько не демократична, как ни обидно это для наших дней. Уже то, что только парадоксальные объяснения бывают правдоподобны, по меньшей мере, для сложных явлений – делает их неприемлемыми для общества. Ум человеческий не терпит ни сложности, ни парадокса; и сталкиваясь со сложностью, избегает парадоксального ее объяснения, находя парадокс, предпочитает ему объяснение возможно более плоское. Нужны большие усилия, чтобы навязать человеческому уму парадокс, заставить его примириться со сложным…
***
То, что называется философией, имеет обычно три составляющих: опыт сердца, мудрость и собственно философию. Между опытом сердца и философией – разрыв, который нельзя заполнить, так что всякое целостное (т. е. притязающее на целостность) здание философии при ближайшем рассмотрении оказывается неоднородным. Любая область знания, задумавшая из себя самой объяснить всё остальное, строит на шаткой почве – потому, в первую очередь, что в состав объясняемого предмета входят вещи, ему инородные, и поэтому из этого предмета, при помощи знаний об этом предмете необъяснимые вообще. Ни человека, ни мир нельзя объяснить из них самих. Всегда остается нечто внешнее по отношению к нашему объяснению, что в свою очередь нуждается в объяснении – и так до бесконечности… Рассматривая некое явление, мы убеждаемся, что в нем есть частьдругого, более глубокогоявления – о котором мы, зная только первое явление, судить не можем. Тут и вступает в дело интуиция (если речь идет о естественных науках) или опыт сердца. Они спасительны – но, надо честно признать, имеют очень мало общего с какими бы то ни было систематическими и всеобъемлющими построениями. Интуиция, душевный опыт – если угодно, ключи к зданию; но, в качестве ключей, они всегда находятся вне самого здания, не составляя с ним единого целого. Я думаю даже, что связь идей, растущая исключительно сама из себя, нежизнеспособна. Самое цельное и замкнутое построение, для своего бытия не нуждающееся ни в каких внешних, по отношению к нему, положениях – в то же время и самое искусственное. Всякое наше понятие о мире (притом тем больше, чем оно плодотворнее) обречено быть разомкнутым, неполным, открытым, как неполны и открыты мы сами… Ведь человек, если можно так выразиться, открыт вовне – и не имеет основания в себе самом. Если признать это, становится ясна причина неудач всех объяснений человека, как бы скроенного «из одного куска». В нас нет цельности, следовательно, нет места и «цельному» толкованию человека, так соблазнительному для эпохи поиска наименьшего числа причин. Умственное движение последних столетий стремилось именно к замкнутым и самозаконным построениям: к такому образу мира, какой не нуждался бы (по выражению Лапласа) в «гипотезе Бога»; к обществу и личности, свободным от внешних по отношению к ним ценностей и святынь… И, замечу, в отношении общества и личности это стремление потерпело самую жестокую неудачу, т. к. оказалось, что замкнутой в себе общественной и душевной жизни нечем держаться и, в сущности говоря, незачем быть. Отсюда томление наших дней, которого нисколько не утоляют богатство и власть…
***
Мыслитель, если он действительно глубокомыслен, занимается чем-то таким, что не может вызвать сочувствия у «широкой публики». Никаких смелых обобщений, широких построений, но толькокропотливое собирание смыслов. Полная противоположность развеселой прогулке, которой давно уже предается обыватель – прогулке, в ходе которой ценности разбрасываются направо и налево, всё больше освобождая идущего. Мыслитель занят чем-то совершенно противоположным, ищет не легкости, а достаточно тяжелого бремени, поднятие которого только и облагораживает. «Как бы еще больше освободить человека?», спрашивает эпоха; «Как бы заставить человека снова поднять оставленное бремя?», об этом спрашиваю я. «Умение отказываться и стремиться», так можно кратко определить нравственность; это умение в наименьшей степени развиваемо в современном человеке. Что значит «поступать нравственно»? – Воздерживаться от возможных поступков и совершать необходимые, т. е. постоянно налагать волю на свои хотения. «Что можешь, то не всегда делай; что должен – делай всегда». Мировоззрение совершенно неприемлемое для эпохи освобождения от всякого бремени!
«Да ты что за святой, чтобы нам о совести говорить!» Так можно спросить. Но совесть – не святость; святость – только недостижимая звезда на небосводе совести. Для святого должное становится желаемым, т. е. закон и воля соединяются в одно; у обыкновенного же человека они всегда в разладе…
«Но зачем же, – могут спросить дальше, – все эти бессмысленные насилия над человеческой природой, которая так явно хочет силы и власти?» В этом вопросе уже содержится ответ, и ответ неверный, т. к. в человеке две природы. Побуждения низшего порядка выдаются за побуждения общечеловеческие, тогда как нравственный закон тоже укоренен в человеке, а иначе и самого этого закона у нас бы не было. Выводить нравственность из потребностей общественной жизни, как это принято теперь, по меньшей мере наивно.Любить ближнего, с точки зрения интересов общежития – явное излишество. Для существования общества довольно и более простого правила: «пожри слабого, покорись сильному». Новейшая мысль до неразделимости смешала нравственность и правила поведения в обществе, как будто они всегда и всюду представляли одно, тогда как на самом деле они могут не просто расходиться, но расходиться чрезвычайно. Это ошибка утонченной и высокоразвитой эпохи, для которой нравственность и закон предельно сблизились, что бывало в истории далеко не всегда. Достаточно вспомнить не только древний мир, но даже и средневековье. Нравственность, чаще всего, была для ближних; общественный закон определял отношение к дальнему, и между первым и вторым нередко была пропасть. Только новейшая европейская культура достигла той утонченности, при которой для дальнего и ближнего применяется (по меньшей мере, на словах) одна мера. И эту-то утонченность Ницше и его последователи приняли за норму.