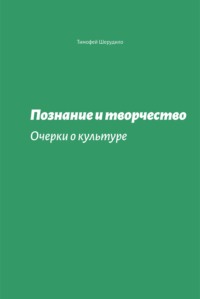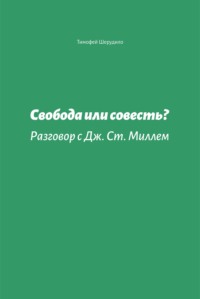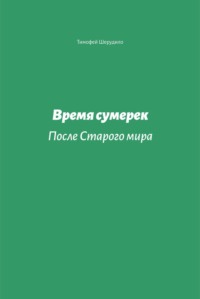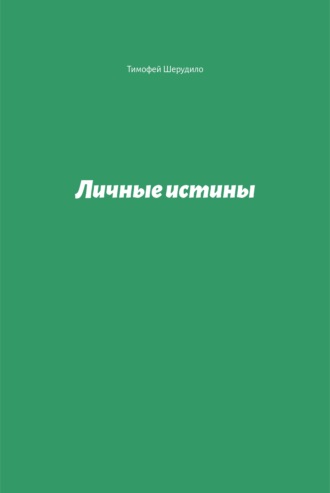 полная версия
полная версияЛичные истины
***
Надо отметить любопытный факт: с приходом науки исчезает мудрость. Мудрец сменяется ученым, поступки которого трудно назвать мудрыми или ответственными. Ученый из всех сторон деятельности мудреца берет только одну – исследование, но совершенно отказывается от размышления, оценки и ответственности, как чуждых его специализации. Точно так же в новейшее времямыслитель сменился философом, который занимается прежде всего и исключительно служебными вопросами, больше беспокоясь о методе поиска истины, чем об Истине как таковой 14. Принято представлять эти подмены признаками «прогресса», наподобие смены алхимиков – химиками, однако на самом деле это признаки упрощения и уплощения культуры, отказа от цельного знания ради частных специальных успехов. Достижения наук не в последнюю очередь обеспечены отказом от размышления над этическими вопросами, то есть подавлением совести исследователя. На место совести стала ничем не ограничиваемая любознательность, более или менее беззастенчиво используемая государственной властью. Состоялся, в сущности, союз науки и государства, в котором наука поставила себя на службу власти, а власть обязалась смотреть сквозь пальцы на безнравственность науки – безнравственность, которая недавно, еще в последние столетия, вызывала у государственной власти беспокойство. Земная власть, и всегда склонная к нечестным сделкам, переменила союзника, и от Церкви переметнулась к еще вчера подозрительной науке, так как в отличие от Церкви эта последняя никогда не поднимает голоса против насилия и несправедливости, но зато обеспечивает неимоверное, недоступное правителям прошлых времен земное могущество. Вот что следует принимать в расчет, говоря о науке и так называемом «научном мировоззрении», которое современность пытается привить массам. Всё совсем не так безоблачно, как принято считать. Церковь всегда подозревала науку. Подозревала в стремлении к силе без правды, что для средневековья было первым признаком демонизма. Никто, однако, не мог предугадать, до какой степени Церковь, при всей ограниченности средневекового кругозора, была права. В новейшее время государство приобрело новую союзницу, которая, в отличие от Церкви, дает власть без стеснительных нравственных условий, за одно лишь покровительство, т. е. по сугубо материальным побуждениям… Сказать это – значит покушаться на последнюю святыню, которая осталась у человечества – на святыню безответственного и непредвзятого исследования, ни к чему не приводящего. Но если мы хотим сохранить свободу мысли, мы должны отклонять всякие неправомерные притязания, всякую попытку господства над совестью, исходят ли они от светской или духовной власти.
***
Чем больше наша глубина восприятия, тем большеневыразимого избытка мы находим в вещах и людях. Только плоскость мысли и чувства дает свободу выражения всех вещей в словах легко и без остатка. Все искусства – от поэзии до философии – заняты как раз выражением этого невыразимого, а кто его не чувствует, тот создает свое плоское, но зато всеобъемлющее мировоззрение, которое, однако, всегда неполноценно, п. ч. неизреченная, невыразимая словами часть действительности из него изъята.
В области философской мысли это невыразимое – душа и Бог, против которых столько ополчаются, но от которых никуда нельзя уйти. Всё человеческое не имеет смысла и ценности, если за ним не скрывается божественное. Новейшее время учит, что как только начинается наступление набожественное, так тут же, на глазах, начинается обмеление и уход человеческого. Опыт показывает их неразрывную связь и позволяет заключить, что человеческое и есть божественное, божественное и есть человеческое, или, лучше сказать: божественное есть почва для истинно человеческого. С этой мыслью можно жить – и непостыдно умереть.
***
Дух означает бездетность и бесследность на земле в человеческом смысле. Руководимый духом – как это ни грустно – не строит до́ма и не питает детей, его цели и чаяния долговечней и дальше, и в то же время по человеческим понятиям призрачны. Царство духа, как давно уже замечено, враждует с преизбытком жизни. Духовное единственно долговечно на земле, однако совершенно чуждо порядку труда и смены поколений; оно слишком любит каждую данную личность, чтобы смотреть на нее только как на звено в цепи потомков и предков, как на средство – а природный, житейский взгляд на вещи именно таков. Человек для него прежде всего отец, муж или сын, работник, чей-то потомок и предок, но не исключительный и неповторимый дух… У нас есть выбор: либо не закрепиться в этой жизни, пройти сквозь нее неудовлетворенными странниками и оставить после себя детей в духе – либо найти себе твердую почву, пустить корни и принести плоды, исполнить человеческое назначение, и не пробудить ни собственной души, ни чужих. Пробужденный лишается покоя и человеческого воздаяния. Его хлебом будет мысль, наградой истина, а детьми ду́ши, которым он помог открыть глаза, но всё это бесплотно и неутешительно с точки зрения мира. «Жизнь духа» и «счастливая жизнь», при всей призрачности земного счастья, несоединимы. Можно только обманывать себя надеждами на их соединение, что время от времени свойственно многим, если не всем людям духа… Либо счастье, довольство, покой – либо дух. Есть только уловки и кратковременные передышки, а потом снова душевный труд, не имеющий никакой ощутимой награды.
***
Старый вопрос: если творчество – безумие, отклонение от «нормы», то почему это безумие влечется неизменно к одним и тем же целям, к красоте и правде – за редкими, почти отсутствующими исключениями? Здесь явное противоречие. Если на почве «нормы» произрастают как умеренные пороки, так и умеренные добродетели, словом, наблюдается известное разнообразие, то, напротив, в саду «отклонения от нормы» все деревья наклонены в одну сторону, гораздо больше единообразия и порядка. Похоже на то, что мы ищем норму не там, где она есть. «Нормально» в человеке высшее, а безразлично, является только почвой для роста – всё остальное. Дайте человеку вырасти, и он найдетнастоящую норму, он найдет правду. Из этого можно сделать некоторые выводы относительно цели зла в мире: не дать людям подняться выше среднего уровня, а еще более – заставить это полу-природное существование считать естественным и единственно возможным. И надо сказать, что зло, как оно действует в истории, во все времена стремилось именно к тому. Даже мечтатели о «гармоническом человеке», начиная с Платона, этого вымечтанного человека стремились заранее ограничить; демократия провозглашала спасительность посредственности; а тирания решительно насаждала ее господство…
***
Писать только о самом главном – значит выйти за пределы литературы, по меньшей мере, той ее части, какая допустима в современном обществе. Писать о главном – значит многого не объяснять читателю, предполагая уже продуманным и понятным; в конечном счете – обращаться к «посвященным», каких очень немного, зато и бытьпредельно убедительным, будучи в то же время предельно непонятным для неподготовленного ума.
***
Пессимизм или оптимизм личностипредшествует ее умственным построениям. «Чувство отчаяния и проклятия», о котором говорил Достоевский, свойственно не всем. И неизвестно еще, от рождения ли это чувство или оно дается по мере того, как выцветают надежды и уходят из виду цели, как далекие горы?.. Едва ли Достоевский знал это чувство в те годы, когда был «петербургским мечтателем»… Единственное, что можно утверждать – что с годами оно усиливается; вспомним Гоголя и его всё растущую тоску. Вероятно, и врожденный или рано усвоенный оптимизм также усиливается… И все наши построения, все наши поиски – только продолжения, следствия, отражения первичного наклонения нашей души. Какое из двух «наклонений», солнечное или сумрачное, более благоприятно для нахождения истины? Мне кажется, что постоянные сомнения, склонность к проверке и перепроверке заключений и чувств более благоприятны для разыскания истины, чем настроение оптимиста, куда менее разборчивого в выборе мнений, лишь бы они не противоречили его солнечному мироощущению… Возможно, впрочем, и то, что всё мое рассуждение – только самоутешение мрачного и оторванного от жизни человека, которой испытывает потребность в оправдании. Возможно и это.
***
Значение писателя в литературе определяется не его умением плетения словес (каким обладал, например, советский Платонов), но тем, будут ли следующие поколения искать у него ответов на те же вопросы, какие мучили его самого. Истинная мера литературных достоинств лежит вне литературы, по меньшей мере, для нас, русских. Либо писатель умел задаваться верными вопросами, либо никаких вопросов не знал – и писал для себя и своей эпохи, не более. Сейчас нам пытаются внушить, что истинная литература есть нелитература вопросов (как это было в России до 1917 года), и даже не литература ответов (какую пыталась создать революция), а литература более или менее кудрявых слов, которые ни о чем не спрашивают и ни на что не отвечают, в общем, литература почесывания пяток, о которой Коробочка спрашивала Чичикова: «А не почесать ли тебе, батюшка, пятки на ночь?» Это ложь. Литература есть нечто совсем другое.
***
Есть круг понятий, которые в условиях необитаемого острова, одиночного заключения или монашеской кельи теряют всякое значение: гордость, славолюбие, скромность, самомнение, тщеславие… Что значат самолюбие и желание славы для пастуха при его овцах? И какой славы он мог бы желать – славы «первого пастуха»? И в чем может проявиться его скромность – в том, что он не желает большего, чем имеет? Но это уже не скромность, а простой здравый смысл. Словом, всё это понятия общественной жизни и тех, кто в ней имеет участие, а не тех, кто из нее исключен. Пастуху не нужны ни скромность, ни гордость; даже более – ему не нужны вообще никакие личные качества: они только помешали бы ему быть хорошим пастухом.Личные качества, как это ни странно, нужнее всего именно в обществе, не на безлюдье. А на безлюдье… на безлюдье мы сами, собственно говоря, себе не нужны.
***
– И каким же ты видишьсвое место в умственной жизни эпохи – если бы оно у тебя было?
– Мое место – место овода, который бы не давал вам спать, к чему так склонны все, кто думает, будто обладает последней истиной, или кто подчинился тем, кто так думает.
– Не то же ли это самое, что место вольнодумца в недавние времена?
– Не совсем то. Вольнодумец не бывал никогда серьезен; все его силы уходили на отрицание; всю ценность своего «я», всю сердцевину личности он вкладывал в издевку и свистки. Я, напротив, призываю к серьезности. Я говорил когда-то, что есть «свобода от» и «свобода для»; вольнодумца привлекает первая, меня – вторая. Усомниться в общепринятых основаниях я предлагаю только ради поискаболее достойных доверия оснований; вольнодумец же во всём открывал человеческий произвол и предание, и свою жизнь, вполне освобожденную от произвола и предания, основывал на песке, не забывая ненавидеть Того, Кто задолго, очень задолго учил не строить здания на песке…
***
Творчество – видимый признак боли и перехода. Мы продираемся сквозь колючие кусты, читатель же видит наше творчество, так несомненно – в его глазах – свидетельствующее о праздности наших душ. Лучшая пища и воздух для творчества – в пустынных местах, где лежат вопросы, не имеющие ответов; там, куда человек боится заходить и не хочет. Творчество – признак борьбы; в молодости – за любовь; часто – за правду; и очень часто – признак борьбы души за вечность. Человек творчества «нормален» в общепринятом смысле тогда, и только тогда, когда на нем нет руки Божьей. Тогда его занимают пустые, т. е. достижимые цели, «мышья беготня» жизни, словом, он развлечен и отвлечен от себя самого. Но он возвращается к себе… и тогда Белинский, не обинуясь, называет Гоголя сумасшедшим, а газеты почти в глаза называют Достоевского душевнобольным. Но как хорошо, что быть «нормальным» подолгу для человека с умом и душой невозможно!
***
«Кого я буду теперь описывать?», спрашивал Мастер в романе Булгакова. Постановка вопроса совершенно ложная, т. к. настоящий писательбольше мыслит, чем описывает, т. е. глядит не наружу, а внутрь себя. Достоевский всегда глядел внутрь себя; Лев Толстой – чаще всего; только какой-нибудь Горький «описывал»… Вопрос творчества не в том, «что бы мне описать в мире?», а в том, «что я принес миру?» Гоголь первый у нас почувствовал, что дело его – не описать, а выразить; что литература есть душевный труд, а не удовлетворение потребностей читающей публики; что искусство – религиозно. Нет, последняя мысль воодушевляла и Пушкина, но Пушкин был слишком европеец и даже француз, по симпатиям юношества, чтобы так прямо сказать об этом. Если он и говорил о «молитвах», то только рядом со «звуками сладкими», то есть в совершенно невозможном соседстве. Он, как несколько цинично выразился Лев Шестов о царе Давиде, «когда каялся, то не грешил; а уж когда грешил, то не каялся». «Томиться и сгорать желанием совершенства» – эта мысль Пушкину была чужда, потому что она несомненно нарушила бы его внутреннюю цельность, умалила бы полноту жизни, которой он – как многие гораздо менее примечательные люди – всегда поклонялся. Религиозный взгляд на вещи разрушает первобытную полноту жизни, во всё вводит разделение: нет просто «мира», но есть Бог и я; нет просто «личности» – но дух и душа; нет просто «дел» – но добрые и злые… Жизнь делается острее и плодотворнее, но теряет в цельности. Этот взгляд повсюду находит антиномии, не могущие друг без друга существовать противоположности, между которыми и создается напряжение, или, лучше сказать, которые, как два конца лука, натягивают тетиву и далеко посылают стрелу… Упрощение душевной жизни, даваемое первобытным или, напротив, самым современным мировоззрением – словом, выведением всего многообразия вещей из какого-то одного корня – ведет и к обеднению творческой силы, сначала – к одному только наблюдению за действительностью, затем и к поиску всё более острых и пряных ее черт для пресыщенной публики… Литература описательная, не ставящая и не исходящая из неразрешимых вопросов, есть только путь к исчезновению литературы вообще.
***
Быть пророком – очень плохо. Пророк до конца жизни лишен успокоительного сознанияединства с большинством, которое так необходимо для человека. Правда его мучает, кусает и жжет, он вынужден ее высказывать вопреки всему, но того успокоения и того внутреннего мира, которые знакомы предавшимся лжи или просто безразличным, у него никогда не будет. Ложь в наибольшей степени обладает способностью приносить внутренний мир, и всякий враг ее казнится непреходящим беспокойством. Награда правдолюбцев такова, что ни один лжец не пожелал бы ее получить. Так истина охраняет себя.
***
Любая философия есть выражение внутреннего опыта, и обсуждениеслов, которыми она была выражена, без внимания к этому внутреннему опыту – неплодотворно. Вы можете только сравнивать свой опыт с тем, о котором рассказывает философ, находить сходство или различие – но только не думайте, что слова, найденные мыслителем, суть резиновые мячики, которые можно подобрать и бросить ему обратно… Любые слова – только формы, которые себе нашла жизнь души; хотите судить об этой жизни – пожалуйста, но от суждения о словах, как если бы это были пустые оболочки, воздержитесь. Чтобы понимать чужие мысли, нужно прежде всего иметь свои; чтобы судить об известных понятиях, нужно их пережить и продумать внутри себя… Без этого всякая философия останется для читающего только набором слов, за которым не видно смысла.
***
Вопрос: «Что такое дар?» равнозначен другому вопросу: «Почему я вижу то, чего другие не видят?» Кто никогда не задавался этим вопросом, для того и первый не существует. Ему вольно верить в «равенство» и утверждать положительные идеалы… Для того же, кто спрашивал себя, откуда его горестная способность,глядя на одно с другими, видеть разно – это острый и важный вопрос. «То или иное для меня очевидно. Почему только для меня? Что значит эта способность видеть сверх обыкновенного? Болезнь, невежество, самообольщение? Почему неважное для других, иногда для целых поколений, для меня важно? Почему общепринятое и всеми одобренное мне претит?..» Этими и подобными вопросами задается человек дара. Удовлетворительного, т. е. дающего успокоение – а только такие ответы принято считать удовлетворительными – ответа на эти вопросы нет. Либо правы «все», и тогда ты погнался за блуждающим огоньком; оперся на трясину; ходишь во тьме – или прав ты и еще немногие. Этот ответ еще тяжелее первого, потому что побуждает расстаться с усвоенной от детства успокоительной верой в правоту большинства, на которой основывается столь многое. С собственным уродством и неполноценностью как-то легче примириться человеку, чем с пугающей мыслью об исключительной правоте. «Священное писание всегда написано другими». Именно так: в наиболее важных вопросах легче всего поверить другим.
***
По «уединенным» книгам Розанова хорошо заметно правило, общее для всякой мысли: внешние события являются только толчками, косвенными поводами для событий внутренней жизни, жизни души. Как бы два ряда шестерней вращаются, иногда задевая друг друга, но чаще всего независимо – так относится душа к внешнему миру. Внешние события – не причины, но поводы, и случайные поводы, к тому, чтобы нечтоцеленаправленное и неслучайное нашло себе выражение и прорвалось наружу. Книги Розанова поучительны, и геройство его и бесстыдство (нераздельные) не пропали даром. Он показал, что самобытная душевная жизнь идет внутри человека, даже без всякой связи с внешними обстоятельствами, и проявляется вовне, собственно говоря, неполно и случайно. При всех своих огромных недостатках, Розанов освободил творчество, пусть и сам потерпел личную неудачу. Еще Достоевскому, его учителю, приходилось прятаться за своих героев, и потому – неизбежно! – пришлось сказать нам меньше, чем он мог бы сказать, если бы не имел необходимости прятаться за сюжетом и характерами, а особенно – за «общей идеей»… Розанов дал писателю свободу. Найдется ли кто-то, способный эту свободу поднять, и если да, то простят ли ему это современники? 15
***
Для творчества – в той мере, в какой оно являетсяосвобождающим, т. е. приближает к религиозному пониманию мира – нужно освободиться от собственной нормальности; перестать быть просто человеком. В той степени, в какой ему это удается, творец становится философом и пророком; в случае неудачи – остается художником своего времени, любопытным для современников и, может быть, при большом везении, для внимательных историков. Из человеческого в его душе родится человеческое и творчество, то есть временное и местное. Для успеха творчества нужно вырваться за пределы самого себя. Кто за них не выйдет, останется милым собеседником и приятным человеком, но не увидит звезд, как на старинной гравюре их видел странник, выглянувший за пределы небесного круга.
***
Юношеское нетерпеливое стремлениетворить из ничего на деле приводит к прямо противоположному: к низведению всего существующего в ничто, к уничтожению, которым кончается каждая революция. Охотники строить на пустом месте получают только вожделенное пустое место. Молодость, если она неосновательна и тороплива (как бывает чаще всего), жаждет не просто новизны, но такой новизны, которая бы не основывалась ни на чем из уже существующего. Каждое следующее поколение, в котором возобладала эта идея, думает начать собой историю, и если добивается своего – течение истории прекращается вовсе; от нее остаются только лоскутки и обрывки. Творчество не может основываться на разрушении. Самое новое, самое современное творчество может только продолжать начатое, в этом, собственно говоря, определение культуры и мера ее присутствия: где есть продолжение начатого, есть культура, а не просто последовательность разобщенных поколений. Всякое иное творчество внеисторично, т. е. само себя изгоняет из истории и лишается плодов, а творцов оставляет без потомства. Такова плата за желание, подражая Богу, «творить всё новое» – плата за революцию.
***
Пророку, как и поэту, бо́льшую часть временинечего сказать. Прежде всего потому, что соотношение важного и неважного в его речах слишком неравное: сказав важное, он умолкает – тогда как другие говорят, говорят, и конца не видно их речам… Кто хочет говорить о важном, тот скажет мало и будет однообразен: ведь только одно, или почти одно, точило и жгло его душу. Когда огонь усиливался – он говорил; когда пламя утихало – молчал. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», тому нечего сказать, и с этим приходится мириться. Здесь лишнее свидетельство того, что поэт (подразумевайте большее) пишет не «от себя» и не «по желанию». От себя и по желанию бывают обычно гораздо более многоречивы.
***
Иные мыслители видят божественное «умным зрением», по Платону; для меня жеповседневное откровение, каким является творчество, значит гораздо больше, чем умное зрение; пожалуй, никакие доводы умственного характера меня не убеждают вообще. Сыну исключительно лживой эпохи трудно не быть большим скептиком в отношении всего, что может быть доказано. Вместе с Оскаром Уайльдом я полагаю, что «доказать можно всё, что угодно, даже совершеннейшую истину», и потому ценность всяких «разумных доводов» должна быть под подозрением. Именно потому я занят в основном истолкованием своего повседневного откровения, что чересчур сомневаюсь во всём остальном – и потому так теряюсь, когда это откровение от меня отходит. Вдохновение, вернее, его плоды – единственная (для человека творчества) безусловная действительность, которая никак не зависит ни от него, ни от кого-нибудь другого. Только общение с этим безусловным и придает его жизни, в остальном пустой и случайной – смысл. И больше можно сказать: цель человека творчества – не в успехе его творчества у людей; у судьбы он может просить лишь о том, чтобы вдохновение не прекращалось. Почему так? Потому что вдохновение дает ему полноту жизни, а успех (каким мы его знаем и не имеем оснований полагать, что он изменится) – нет. Следовательно, прилагать усилия для достижения успеха, мечтать об успехе, терзаться невозможностью успеха – значит отнимать у самого себя силы, которые могли бы пойти на другое, послужить вдохновению, а не сожалениям об утраченном… Стремиться нужно к тому, что дает полноту жизни. При таком взгляде успех теряет привлекательность, как и всякая «жизнь для» той или иной внешней цели. Жизнь находится не в том или ином достижимом предмете, но здесь и везде, насколько она наполнена. Нет «удачи и неудачи», но только полнота и пустота, а достижение – не то, чего ты добился, но то, чем стал.
***
Для эпической поэзии, да, пожалуй, и для всякой настоящей литературы (т. е., например, для романов Достоевского, но не для рассказов Чехова) необходима убежденность в осмысленности бытия. Только в предположении, что герои, вожди, любовники и поэты суть самостоятельные деятели, а нетени теней, что поступки их нечто большее, чем роение мошек над водой, – возможна подлинная литература; иначе – описывать некого, да и незачем. Либо человек – космическое явление, и его любовь и борьба так же несомненна, как полет Солнца через Вселенную, либо – при взгляде на мир как одну сплошную поверхность, видимую глазу плоскость, на которой мелькают случайные узоры, – и любовь, и борьба суть лишь судороги комков глины в руках неумелого горшечника… Чтобы сказать последнее: либо всё живое – судороги полуживого, тени теней, существование почти несуществующего; либо во всём временном и местном – отблески Вечного. Герой и его поступки, Ромео и его стремление к Джульетте, нежность Джульетты к Ромео – не имеют никакого значения, если это тяга и нежность одной горсти праха к другой. Литература это отлично знает, и потому умолкает, как только побеждает атеизм и плоскость; уходит от бессмертных предметов и тем; в самом лучшем случае – робко вздыхает о бессмысленности бытия. Нельзя рассуждать о том, в истинность, действительность и причастность чего основам бытия ты не веришь. Литература и не пытается этого делать: она замолкает. И мы сегодня находимся безмерно далеко, на расстоянии почти что невозможности, от времен, которые могли живописать героя и в битве, и в любви с одинаковым чувством подлинности и несомненности положений; для нас же и битва, и любовь являются только иллюзиями, хотя вторая предпочтительнее, п. ч. приятнее первой.