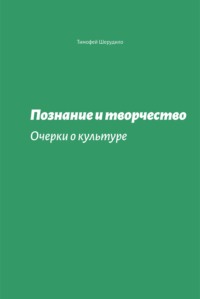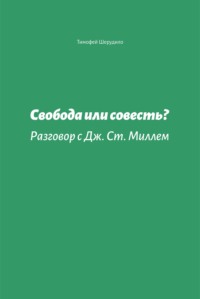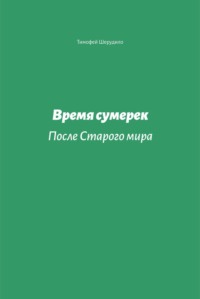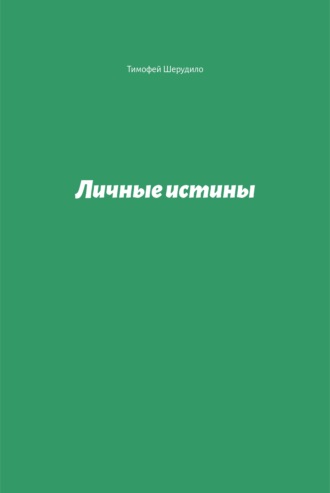 полная версия
полная версияЛичные истины
– Но очарование красоты проходит вместе с молодостью. Что вы на это скажете?
– Я скажу, что молодость права.
***
Человек не только любовник, его назначение выше, поэтому и к обязанностям любовника он должен относиться со стыдом, сколько бы восторгов в них ни было. Стыдно ведь всё, что не вечно, поэтому частью любовь стыдна, а частью свята. Не нужно избегать приятного, но еще важнее, что не следует искатьодногоприятного. Наслаждение не безнравственно, но поиск одних наслаждений говорит о нравственном упадке. Дурен не тот, кто искал счастья и принимал страдание, а тот, кто принимал приятное и избегал тягот, в том числе связанных с угрызениями совести и стыдом…
***
Плакать можно либо над собой, либо над другими, на то и другое не хватает слёз. «Идти по пути своей печали, он же есть путь к самому себе»20 не значит себя жалеть. Напротив, душа закаляется на этом пути и приобретает некоторую смелость, которая могла бы выразиться в словах: «И это я испытала; и другое прошла; посмотрим, что я еще смогу перенести!» Путь печали не путь слез, но «веселой мужественности», о которой мне как-то пришлось сказать. Храбрость – неспособность сожалеть о себе.
***
Атеист рассуждает так: «В мире нет зла, следовательно, нет Бога». К признанию Божества ведет признание мирового зла. Материализм вполне парадоксален: признавая изначальную доброту человека, он тут же объясняет личность и общество через игру низких страстей. Он ставит человека в невозможное положение нравственного идиота, от которого ради общественного блага по-прежнему требуются честность и верность.
***
Близкое и современное редко бывает прекрасным, но приобретает красоту по мере удаления. Разлука питает не только любовь, но и эстетическое чувство. «Верное жизни» искусство, которое держится низкого и повседневного, грешит не только против красоты, но и против правды, поскольку правда и красота – одно.
***
Осудьбе можно говорить, когда есть противоречие между некоторым даром и желанием или способностью его применить. Иначе говоря, судьбу можно видеть только там, где возможное – не одно с действительным. Пока возможное отделено от действительного только случайностью, как у зверей, – нет судьбы, как нет и почвы для трагедии. В трагедии судьба проявляет себя как противодействие личной воле.
***
Личность развивается в меру постоянного опровержения самой себя. Остановка поступательного самоопровержения означает посредственность или застой. Стыд – естественное отношение настоящего к прошлому. Мыслящий человек стыдится своих прошедших мыслей за их несовершенство, не за их предмет. Ломаного гроша не стоит личность, которая на самом деле способна отвергнуть свое прошедшее и его святыни: такая готовность говорит только о легкомыслии. Развитие мысли имеет ценность только при постоянстве ее предмета.
***
Жизнь, лишенная достижимых целей, ставит живущему совсем другие вопросы, чем та, в которой целей можно достичь, препятствия – преодолеть. Ум в таком положении начинает размышлять не оспособах, а о вещах. К чему знание способов, то есть путей, тому, кого опыт убедил в недоступности целей, к которым эти пути ведут? Такая жизнь воспитывает бо́льшую сосредоточенность на внутреннем и недоверие ко всему внешнему, а особенно к поискам успеха.
***
Тому, кто борется с чувством ненужности своей жизни, легко ответить: «Что же, не делай ненужного, делай нужное!» Но в том-то и дело, что в его глазах всё безнужно; всякое дело расползается в его руках. Такому человеку нуженсмысл, ради которого стоило бы что-то делать, а не дела, в которых он мог бы найти смысл. В делах смысла нет, смысл всегда им предшествует. Ожесточенная деятельность только временно притупляет чувство ненужности, но не гасит его вполне. В вопросе: «Что делать?» скрыт другой: «На что надеяться?» Не бывает дел без надежды.
***
В положении, когда человек хочет одного, а достигает другого, скрыты трагедия и комедия рядом. Комедия – когда это происходит с другими; трагедия – когда это происходит со мной. Все комедии основываются на мысли о том, что некто искал одно, а нашел другое. Однако и все трагедии исчерпываются тем же, с одним только добавлением: иногда (особенно в трагедиях, которые показывает нам Жизнь) герой ищет –и не находит ничего. Рок в такой пьесе проявляет себя тем, что не высылает событий навстречу герою. Эти трагедии не зрелищные, но самые содержательные.
***
«Человек, предавшийся унынию, есть дрянь во всех отношениях», писал Гоголь. Как вы думаете, о ком он это писал? О себе он это писал. Всё, что говорится о человеческой душесо властью, говорится о собственной душе. Даже тот, в ком видят бичевателя общественных пороков, преследует их прежде всего в себе, или его слова не имеют веса. Осуждать что бы то ни было в других невозможно, даже по невозможности досконального знания чужой души. О чем я сужу, то я должен знать, а знать я могу только свое; в области человеческого – познания по доверенности не бывает.
***
В каждом начале видеть конец – дурной склад ума, но зоркий. Кроме начал и концов, в каждом деле есть середина; она-то и ускользает от такого взгляда, но зато отдаленные следствия и неясные причины он видит острее, чем глаз, привыкший к созерцанию середины, то есть существующего порядка вещей. Мир перед таким взором становится более связным, но и более подвижным, текучим, поскольку средние состояния исчезают из поля зрения, и каждое начало непосредственно перетекает в свой же конец. Мир для такого глаза всегда окрашен в цвета зари, утренней или вечерней, он всегда или только становится, или уже угасает. Чувства наблюдателя причин и концов обострены, и всякая жизненная пьеса выглядит для него драмой.
***
Красота нами обладает, мучает и жжет, а кто от нее откажется, кто согрешит против красоты, тот наказывается собственной пошлостью. Нельзя не признавать красоты и при этом не быть пошляком. И в то же время видеть в мире красоту – едва ли не горше, чем жить без нее, потому что повсюду в покрове красоты, на мир наброшенном, видны разрывы, и в них ужас.
***
И всё-таки мы стремимся к прекрасному, хотя время и обстоятельства меняют наше о нем представление. Вернее сказать – дойдя до определенного предела, душа начинает стремиться к прекрасному, до того ее занимает толькоприятное… Прекрасное же – то приятное, от которого нет пользы. Прекрасно в первую очередь то, что хорошо и бесполезно. Там, где в оценку человека или явления входит мысль о его пользе, еще нет места прекрасному. Красота показывается только бескорыстному оценщику; красотой можно назвать только то, что влечет душу к себе и при этом не может ей принести никакой пользы.
***
В каждой сложной и богатой жизни есть смысл – особенно если его не искать, а принимать вместе с жизнью. Отдельного от жизни, не вмещенного в чувства, дела и слова – смысла и не бывает. Его бесполезно искать, им можно только обладать; стоит за ним потянуться, как его нет. Вглядываться в лицо своей жизни – или своего смысла – не бесполезное и не бесстыдное любопытство. Если можно так сказать, мыучимся у смысла своей жизни, а не учим смыслу жизни других. Последнее никогда не бывает успешным.
***
Мысль, в русской литературе последний раз высказанная Львом Шестовым: что в человеческой душе Бог видит и награждает что-то совсем другое, чем добро и зло, как они нам известны, дает великое освобождение, но и лишает нас почвы под ногами. Чтение Шестова нельзя посоветовать тому, кто ищет «правил жизни» и «утешения мудростью». За правилами и утешением идут обычно к Церкви и философии, идут те, кто не хочет знать Библию и Платона. Поверхностное отношение к важнейшим вещам – самое безопасное к ним отношение. Церковность, как и «философский взгляд на вещи», легче всего для тех, кто не знает ни Писания, ни писаний. Как только у человека является свой, интимный взгляд на веру и мудрость, он делается непригоден для общественной жизни в этих областях. Из читателя книг он переходит в разряд тех, кто эти книги пишет; это совсем другое. В обществе есть неиссякаемый спрос на желающих подчиниться: на каждого желающего отдать свою волю найдутся руководители, готовые его пасти. Философ и истинно верующий – тот, кто неизменнобродит один, не разделяя общих страхов и влечений. Он не бесстрастен, как думают, но и страхи, и влечения у него личные, неразделенные с большинством.
***
Человек, ненужный своей эпохе, вправе о ней судить: они друг в друге не заинтересованы. В его положении основной задачей, однако, становится не суд или проповедь, но сохранение внутреннего равновесия. Кому-то она может показаться ничтожной, но в сущности это задача Иова, который тоже некогда был поставлен в невозможное положение, из которого не было выхода. «Зачем свет человеку, пути которого преградил Господь?» Пока Иов был счастлив, этот вопрос казался ему бессмысленным, как и большинству людей. Но в безвыходном положении он становитсяважнейшим вопросом. Оценка творчества Ницше, например, должна исходить не из воображаемых образов величия и силы, которые он рисовал, говоря о Сверхчеловеке, а из действительных страданий и болезней, с которыми он всю жизнь боролся, из слабости, которая и подвигла Ницше на проповедь сверхчеловечества….
***
– К чему противиться духу своего времени? Может быть, твои ценности и хороши, но они призрачны. Откажись сразу от всего, раскайся, и из рук этого сильного духа получишь спокойствие и свободу. Тебе больше не придется защищать ценности, которые не могут защитить себя сами!
– У того, кто однажды подчинился, не будет больше ни спокойствия, ни свободы. Он будет переходить из степени в степень подчинения, пока не потеряет всего себя. Всякая сила успокаивается только тогда, когда перестает встречать себе сопротивление – таков и дух времени: ему нужно либо подчиниться вполне, либо не подчиняться вовсе.
***
Жизнь богата содержанием настолько, насколько содержательна и богата душа живущего. Смысл есть внутренняя связь явлений. Жизнь отнюдь не бессмысленна, но чтобы усмотреть богатство ее внутренних связей, нужно как можно большее, если не сравнимое, число связей иметь внутри себя. Мир отражает познающего: мудрый видит в нем мудрость, а простец – простоту. Мир постигается только через самосовершенствование; внешние знания «о привычках вещей» недостаточны, если не дополняются хорошим знанием собственной души.
***
Борцы против идеи бессмертия души защищают свое право грешить. Если душа бессмертна, то грехи в сей жизни вменяются и в будущей; если же нет – делай, что хочешь! Идея бессмертия души есть идеяличной ответственности, оттого так яростно на нее и нападают. На смерть материалисты смотрят, как на благодеяние, потому что она отпускает их грехи: нет продолжения, нет и последствий. Смерть для них – возможность улизнуть, не уплатив по счету. Ненависть к идее бессмертия души имеет исключительно этический характер.
***
У нас нет выбора, кроме как быть духовными существами. Иначе – ужас, животная тоска без животных радостей, черный бессмысленный омут… Высшие способности требуют от владельца религиозности или сумасшествия; нельзя быть «просто человеком», вернее, «просто человеком», идеалом среднего состояния человеческого, можно быть только при средних же и способностях. Где способности выше обыкновенных, там нет возможности внутреннего равновесия на такой шаткой опоре, как «здравый смысл» или «естественные влечения». Там человек узнаёт безумие «смысла» и бесцельность «влечений», хотя и не становится оттого святым, но продолжает, с еще большим жаром продолжает мыслить и увлекаться.
***
Парадоксалист бы сказал: «Есть мужество – следовательно, есть Бог и вечная жизнь, потому что иначе в стойкости перед угрозой нет смысла: зачем отодвигать и без того неизбежную смерть? Мужество делается понятным только при вере в том, что дела и поступки не бессмысленны, т. е. имеют и будут иметь последствия; что жизнь важнався, не только в ее достижениях или ее венце; что борьба имеет целью не простое самосохранение, но улучшение личности, ценное и в последующей жизни». Говорить так, однако, значило бы «толковать смысл в понятиях жизни», как предлагал Лев Шестов, т. е. искать смысла в вещах, а не в нашем мнении о них, а это с некоторых пор считается большим грехом в философском мире… То дивное ощущение смысла во всем, которого не стыдился еще Гегель, стало считаться постыдным.
***
Вера не обеспечивает спокойствия, как это принято представлять. Верующий чувствует себя под защитой и покровительством, и в то же время знает, что это покровительство не может, не должно помешать ему погибнуть, потому что поражение и гибель входят в естественный порядок вещей, из которого никто не изъят. Вера в непобедимость, неуязвимость, неподверженность неудаче была бы внерелигиозна, безнравственна. Она свойственна безумцам, одержимым, всяческим ослепленным и в конечном счетеживущим вне веры, как раз потому, что те веруют не в Бога, а в себя и свою исключительную судьбу. Однако мир не создан на благо того или иного человека; в такой вере нет кротости, только исключительное себялюбие; она уже не вера, а только более или менее длительный самообман. Христос не так верил: Он проповедовал благую весть и знал, к чему приближает сия проповедь.
***
– Неужели вы не видите, что религия подавляет человека?
– Да, религиозность есть жестокое и непрерывное покорение себя. Можно отказаться от него и вложить жизненные силы в покорение других, но внешние приобретения дают душе ничтожно мало. Именно постоянная внутренняя неуверенность заставляет завоевателя испытывать судьбу. Люди внешнего дела, покорители чужих душ, вечно в противоречии с заповедью не искушать Господа. Как маловерующие, они непрерывно Его искушают. Конец их известен.
– Так что же: вы проповедуете вериги, посты?
– Должен заметить, что я вообще не проповедую. Я не выдам тайны, если скажу, что ищу спасения, но не готовых к употреблению истин. Увидев во мне искателя святости, вы бы также ошиблись, потому что мне хорошо известна общность источника страстей и молитв. Не скажу большего…
***
Положение верующего таково: он знает, что жизнь имеет смысл, но не знает точно, какой. Вера состоит не в следовании определенным правилам, но в познании смысла жизни, причем не «жизни вообще», но именно данной жизни, с ее угрозами и влечениями. При всяком случае верующий занимает положение деятеля и оценщика. Как деятель, он определяет свою будущность; как оценщик, он определяет значение своего выбора. Излишне говорить, что при таком отношении к своей жизни очень немного в ней выглядит случайным и недостойным внимания. Жизнь верующего состоит в разговоре с его судьбой, то есть с Богом.
***
Религиозное ощущение можно выразить словами: «я один – и в то же время не один, но с таинственной силой, которая помогает мне в хорошем и мешает в дурном». Все упорядоченные религии только наслаиваются на это положение, на двойное чувство одиночества-неодиночества, оставленности, заброшенности в мире – и невидимого сопутствия. Присутствуй в жизни только одно из этих начал, чувство покинутости или чувство присутствия, в ней не было бы места религии; но только чему-то меньшему или большему, чем религия.
***
Верующий говорит себе:
– Бог ставит тебя в трудные положения, постыдные положения, не имеющие выхода положения – для того, чтобы ты потрудился, испытал стыд и нашел выход. Не значит ли это, что Он, несмотря ни на что, всё-таки тебя высоко ценит?
***
Религия – не то же, что «правила жизни», и где есть «правила жизни», там не обязательно присутствует религия. Я боюсь даже, что положительное определение религии вовсе невозможно, как и положительное определение истины. Во всяком случае, правила жизни придумываются людьми и для людей. Они совершенно «посюсторонни» и на внутреннюю жизнь души – в той степени, в которой внутренняя жизнь души есть преддвериеиной жизни, – не распространяются. Религия же не здесь или не вполне здесь и ее первая отличительная черта в том, что она не признаёт видимый мир единственной и окончательной действительностью.
***
В детстве мы находим в своей душе гораздо больше мыслей и представлений, чем следовало бы, – при допущении, что источником этих представлений был только личный опыт. Какой личный опыт ребенка до пяти лет? Психологии следовало бы начинать свою охоту за человеческой душой оттуда, из темноты ранней жизни; но психология в этой темноте предпочитает не видеть, в самом лучшем случае говорит о «подражании старшим» и закрывает глаза на присутствие уже в малом ребенкесложившейся личности. Она, правда, заперта за темной стеной; ей трудно о себе рассказать; она созерцает, но совсем не действует, ее чуть ли не единственное дело – научиться говорить с людьми и управлять телом… но она есть. Выйдя из своего темного сада к людям, душа знает больше, чем она могла узнать из всех колыбельных песен нашего света. Нередко ее заставляют всё знание свое забыть; нередко пробудившуюся душевную жизнь гасят, – и это называется взрослением! – но всё же в своем темном, печальном и добром саду душа знала что-то такое, чего из других источников не узнать. Всё самое главное износится душой из этого сада. За его пределами не будет уже познания, но только припоминание виденных и слышанных прежде дивных вещей, как и говорил нам Платон… И Нагорную проповедь, как и всё прекрасное и правдивое, мы слышали в этом саду, где ночь уютна, мир добр и ласковы звери.
***
Смысл происходящего открывается только впоследствии; отсюда обыкновенно делают вывод, будто сего смысла нет вовсе. Однако вопрос можно поставить и иначе: наши познание и мышление ограничены направлениемот прошлого к будущему, поэтому всякий будущий смысл кажется нам несообразностью, как нечто несуществующее. Будь предвидение (то есть чувство присутствия будущего в настоящем) более распространенной человеческой способностью, мысль о будущем смысле не казалась бы такой нелепой.
***
Одни вещи не имеют смысла, другие не имеют объяснения, и мы их нередко смешиваем. Однако смысл есть совсем не то же, что объяснение; он в самом лучше случаераскрывается в объяснении, но живет – если так можно сказать – отдельно… Искать смысл совсем не то, что «разумно объяснять». Объяснение только стремится к смыслу, но еще не сам смысл; оно преходяще – до тех пор, пока не совпадает со смыслом. Задача разума не в том, чтобы дать вещам объяснения, а в том, чтобы найти в них смысл.
***
Либо красота существует для нас, и мы – для красоты, либо красота случайна, и мы ни для чего. В мире, как мы его постигаем, там и тут зияют разрывы: либо всё осмысленно и цельно, но требует усилия от понимающего, либо всё неверно и произвольно – и единства нет, тогда нет и места красоте, правде и душевному миру. Наука выступает на стороне последнего мнения, и в то же время признаёт в мире хорошо устроенный порядок, стройный замысел, – но только во всем, что не касается человека и его упований. Противоречие веры и науки не в том, что одна ищет единства, а другая его отвергает, но в том, что наука ценит человека невысоко, видит в нем какое-то случайное исключение, которое и изымает из общего единства, говоря: «мир упорядочен, но человек в нем случаен».
***
В способности находить во всем гадкое нередко видят проницательность и «верность жизненной правде».Правда, таким образом, определяется как то, что стыдно сказать. Но что, если правда не такова?
***
Ни во что не верить – то же самое, что ничего не любить. Если неверием венчается человеческое развитие, надо сказать, что венчается оно жестокостью и себялюбием – двумя обычными проявлениями недостатка любви, направленной вовне. Атеизм предполагает: либо всякий человеческий поступок, включая самый ничтожный и гадкий, правдив и прекрасен; либо правды и красоты нет вовсе, тогда и заботиться не о чем. Единственное веское против него возражение состоит в том, что понятия правды и красоты человеку прирожденны, то есть не зависят от его ума и воображения; следовательно,борьба против правды и красоты есть борьба против природы человека; в конечном счете: борьба против Бога есть уничтожение человека.
***
Современная психология говорит: «важны не вещи, а наше отношение к ним», и в иных случаях добивается многих успехов. Но, говоря так, она вносит в жизнь дурную относительность и отсутствие твердой почвы, столь необходимой душе. Перемена отношения к неизменным вещам хороша против мелких неприятностей. Однако жизнь в целом, видимая с такой точки зрения, теряет всякий внутренний смысл. Сказать, что смысл вещей в том, что мы о них думаем, – то же самое, что сказать, будто вещи не имеют смысла вовсе. Либо мы познаём нечто заложенное в вещах изначально и от нас не зависящее, либо только изучаем собственное мышление, думая, что узнаём нечто о вещах. Во втором случае никакого знания просто не может быть, кроме знания о человеке. Я думаю, однако, что в действительности познание идет по среднему пути: познавая вещи, мы изучаем себя, и наоборот, потому что между познающими и познаваемым существует внутреннее родство, общность происхождения, которая и делает возможным миропонимание.
***
Думаю, что молодость ближе к первоисточникам и глубинам душевной жизни, и что сохранение молодости имеет ценность не только внешнюю. В молодости, имея в виду не просто первую юность, но вообщевремя радостной готовности к тревогам, мы ближе к нашему образцу, к тому, каким человек должен быть. «Будьте как дети». Молодость совсем не то же, что незрелость. Незрелость может сопровождать человека даже и до самой смерти, и мерой никаких особенных душевных достоинств не является. Молодость состоит в известной легкости обращения с вещами и неотяжеленностью привычками, в первую очередь привычками ума; молодость больше любит искать, чем обладать, и расточать больше, чем собирать. Это ее признаки. Думаю – и не могу сказать в свое оправдание ничего, кроме этого «думаю», – это состояние душе более естественно, более родное, ближе к ее вечному дому, чем состояние будто бы «трезвой», а на самом деле потерянной, оставленной, заблудившейся «зрелости»; и великие между нами не теряли именно этих черт и до самого конца.
«Трезвость», поздний скепсис, охлажденность – всё признаки в молодости растраченных душевных сил. Кому в молодости было куда себя вложить; чья душа не встречала препятствий на своем пути; кто любил и творил по желанию, где и насколько мог, – тому вольно говорить о безнадежности и безблагодатности мира, ибо надежды и благодати он уже вкусил, сколько хотел. Счастливая молодость создает охлажденных скептиков, но как быть тем, кто в молодости встретил только преграды на пути движений своей души? Только хранить надежды, так как сии люди не успели растратить себя. Цинизм есть мера жизненного успеха и для неимеющих успеха непонятен.
***
Душевная жизнь – огонь, и в ком он горит, под тем протаивает ледок повседневности, по которому мы скитаемся, неудовлетворенные прошлым, недостигшие будущего, и он проваливается всё глубже и глубже к первоосновам вещей, нигде не находя себе твердой почвы, покоя, дома… Человек души беспокоен, бездомен и опасен, всюду странник, всюду пришелец. Плоды его душевной жизни могут быть приятны или интересны обществу, если он поэт или мыслитель, но для него самого эта душевная жизнь скорее бремя, чем дар. Она означает обостренную чувствительность, неподдельную радость, но и подлинную тоску, и – всегда и во всем – неспособность испытывать удовлетворение, собой ли, своим делом или положением в мире. Ему, как Версилову, как всем самым глубоким героям Достоевского, всё будет мало. Помните: «Я понимаю, Господи, отчего Ты положил такой предел человеческой жизни – в расчете на тех, кому скоро всё наскучит… Номне этого срока мало, мне никогда жить не прискучит!», – восклицает одно из действующих лиц в «Подростке». Неспособность устроения в этом мире гонит такие души к тревогам и опасности, к самоистребляющей, «испепеляющей жизни» 21 . Обществу и ближним они тяжелы, но если общество узнаёт что-либо новое о человеке и его душе, то именно от них.