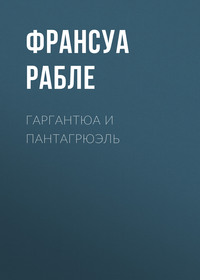полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
Брат Жан-забияка, видя этих веселых братцев-фредонцев и слушая их устав, потерял всякое терпение и громко воскликнул:
– Крысу вам большую на стол! Я сокрушу его, клянусь богом, я ухожу! Сейчас я наверное знаю, что мы находимся на земле антихтонов[312] и антиподов. В Германии разрушают монастыри и расстригают монахов, а здесь их, наоборот, воздвигают.
ГЛАВА XXVIII. Как Панург, расспрашивая одного брата-фредона, получал от него только односложные ответы
Панург с самого нашего прихода только и делал, что внимательно рассматривал физиономии этих королевских фредонов; потом дернул одного из них, тощего как копченый черт, за рукав, и спросил его:
– Брат-фредон, фредонец, фредончик! Где твоя подруга?
Фредон отвечал ему: – Внизу.
Панург. А много у вас их здесь?
Фредон. Мало.
Панург. А сколько их всего?
Фредон. Двадцать.
Панург. Сколько же вам хотелось, чтобы их было?
Фредон. Сто.
Панург. Где вы их прячете?
Фредон. Там.
Панург. Я не думаю, чтобы они все были, одного возраста. А какой у них стан?
Фредон. Прямой.
Панург. Каков цвет лица?
Фредон. Как у лилий.
Панург. А волосы?
Фредон. Белокурые.
Панург. Какие глаза?
Фредон. Черные.
Панург. А перси?
Фредон. Круглые.
Панург. А личики?
Фредон. Холеные.
Панург. А брови?
Фредон. Мягкие.
Панург. Каковы их прелести?
Фредон. Зрелые.
Панург. Их взгляд?
Фредон. Открытый.
Панург. Каковы ноги их?
Фредон. Плоские.
Панург. Пятки?
Фредон. Короткие.
Панург. Каковы они снизу?
Фредон. Прекрасны.
Панург. А руки их?
Фредон. Длинные.
Панург. Что носят они на руках?
Фредон. Перчатки.
Панург. А кольца на пальцах из чего?
Фредон. Золотые.
Панург. Во что они одеваются?
Фредон. В сукна.
Панург. А в какие сукна вы их одеваете?
Фредон. В новые.
Панург. Какого цвета?
Фредон. Светло-зеленые.
Панург. Каковы их головные уборы?
Фредон. Голубые.
Панург. А обувь их какая?
Фредон. Коричневая.
Панург. А каковы все материалы, что вы назвали?
Фредон. Тонкие.
Панург. А башмаки их?
Фредон. Кожаные.
Панург. Перейдем к кухне – я разумею, к их кухне, – не спеша пощиплем, выпотрошим все понемногу. Что у них на кухне?
Фредон. Огонь.
Панург. Что поддерживает этот огонь?
Фредон. Дрова.
Панург. Какие дрова?
Фредон. Сухие.
Панург. А какого дерева?
Фредон. Тисовые.
Панург. А растопки и щепки?
Фредон. Из падуба.
Панург. А какими дровами топите комнаты?
Фредон. Сосновыми.
Панург. А еще какими?
Фредон. Липовыми.
Панург. Но девушки ваши, – как вы их кормите?
Фредон. Хорошо.
Панург. Что едят они?
Фредон. Хлеб.
Панург. Какой?
Фредон. Черный.
Панург. А еще что?
Фредон. Мясо.
Панург. Какое?
Фредон. Жареное.
Панург. А суп они не едят?
Фредон. Никогда.
Панург. А пирожного?
Фредон. Вдоволь.
Панург. И я тоже. Едят они рыбу?
Фрёдон. Да.
Панург. Какую рыбу вы им подаете?
Фредон. Холодную.
Панург. А еще что?
Фредон. Яйца.
Панург. А какие яйца они любят?
Фредон. Вареные.
Панург. Я спрашиваю, – как сварены?
Фредон. Вкрутую.
Панург. И это вся их еда?
Фредон. Нет.
Панург. Как так? Что же у них еще есть?
Фредон. Говядина.
Панург. А еще что?
Фредон. Свинина.
Панург. А еще что?
Фредон. Гусыни.
Панург. А кроме того что?
Фредон. Гусаки.
Панург. А другое что?
Фредон. Петухи.
Панург. А соус какой?
Фредон. Соленый.
Панург. А на сладкое что у них бывает?
Фредон. Сусло.
Панург. В заключение обеда что?
Фредон. Рис.
Панург. А еще что?
Фредон. Молоко.
Панург. А еще что?
Фредон. Горошек.
Панург. А какой горошек?
Фредон. Зеленый.
Панург. А в горошек что кладется у вас?
Фредон. Сало.
Панург. А фрукты?
Фредон. Хорошие.
Панург. Какие?
Фредон. Сырые.
Панург. А еще что?
Фредон. Орехи.
Панург. А как они пьют?
Фредон. Чисто.
Панург. А что?
Фредон. Вино.
Панург. Какое?
Фредон. Белое.
Панург. А зимою?
Фредон. Здоровое.
Панург. А весною?
Фредон. Крепкое.
Панург. А летом?
Фредон. Свежее.
Панург. А осенью, за сбором винограда?
Фредон. Сладкое.
– Клянусь моей рясой! – воскликнул брат Жан. – Как ваши фредонские девицы должны быть толсты, и как они могут бегать рысью, раз питаются так обильно и хорошо!
– Позвольте мне кончить, – сказал Панург. – В котором часу они ложатся?
Фредон. Ночью.
Панург. А когда встают?
Фредон. Днем.
– Вот поистине самый милый фредон, какого я видел в этом году. Да будет богу и благословенному святому Фредону – совместно с благословенной и достойной святой Фредонной – угодно, чтобы он стал первым судьей Парижа! Прах побери, дружок, какой из него вышел бы ускоритель всяких судебных дел, какой укоротитель процессов! Какая гроза дебатов, какой опустошитель мешков, перелистыватель бумаг, какой борзописец! Ну, теперь перейдем к другим предметам, и поговорим о характера и о чувствах.
Далее следует непристойный разговор сексуального характера.
Панург, улыбаясь, сказал:
– Вот бедняга фредон! Вы слышали, как он решителен, краток и быстр в ответах? Он произносит только односложные слова. Я думаю, что он сделает из одной вишни три куска.
– Ей-богу, – сказал брат Жан, – с девочками своими он так не говорит, – с ними он очень многосложен. Вы говорите о трех кусках из одной вишни? Клянусь святым Григорием, что из бараньей лопатки он сделает только два куска, а из кварты вина – один глоток. Посмотрите, как он пришиблен.
– Эта, – сказал Эпистемон, – противная ржавчина монахи во всем мире жадны на еду, – а еще говорят нам, что у них в этом мире только одна жизнь. А что другое, чорт возьми, у королей и великих князей?
ГЛАВА XXIX. Как Эпистемону не нравится установление поста
– Заметили ли вы, – сказал Эпистемон, – что этот скверный урод фредон представил нам март как месяц распутства?
– Да, – отвечал Пантагрюэль, – между тем март всегда приходится в великом посту, установленном для измождения плоти, умерщвления чувственных стремлений и обуздания эротической яри.
– По этому, – сказал Эпистемон, – вы можете судить, осмысленно ли поступил тот папа, который первый учредил пост, – раз этот скверный башмак фредон сознается, что никогда он не замаран так похотью, как во время поста; по очевидным причинам, приводимым всеми хорошими и учеными врачами, которые утверждают, что ни в какое время года не едят такой возбуждающей похотливость пищи, как в это время: всякие бобы, горошек, фасоль, турецкий горох, лук, орехи, устрицы, сельди, соленья, морскую рыбу, салаты из возбуждающих трав, руту, настурцию, дракон-траву, полевой кардамон, водяную петрушку, мак, рогач, хмель, фиги, рис, виноград…
– Вы будете, пожалуй, очень изумлены, – сказал Пантагрюэль, когда я вам скажу, не предписал ли добрый папа, учредитель святого поста, видя, что тогда как раз такое время года, в которое естественное тепло выходит из центра, где задерживается в течение зимних холодов, и распространяется по членам, по окружности, как древесный сок по дереву, не предписал ли папа этих кушаньев для того, чтобы способствовать размножению рода человеческого. Меня навело на мысль то обстоятельство, что в метрических записях Туара больше числится детей, рожденных октябре и ноябре, чем во все другие девять месяцев в году; эти дети, если отсчитать назад, все сделаны, зачаты и зарождены во время поста.
– Я, – сказал брат Жан, – слушаю ваши речи и получаю не мало удовольствия от того; но кюре из Жамбера приписывал это обильное женское потучнение не постной пище, но тем маленьким допросчикам под сводами, проповедничкам елейным, исповедничкам келейным, которые в это время своей власти присуждают развратных мужей чуть ли не к самым когтям Люцифера. Под их угрозой женатые мужчины больше не балуются с горничными, а возвращаются к женам.

– Толкуйте, – сказал Эпистемон, – учреждение поста, как вам думается, – каждый держится своего мнения; но уничтожению его, – которое, по-моему, неизбежно в скором времени, – воспротивятся все дикие, – я это знаю, я слышал от них. Ведь без поста их искусство будет в пренебрежении, – они ничего не заработают, потому что никто хворать не будет. В посту сеются всевозможные болезни; пост – настоящий томник, естественное зачатие и рассадник всяких зол. И примите только во внимание, что если от поста тела гниют, то и души тоже портятся. Дьяволы тогда делают свое дело. Ханжи тогда выступают, у святош начинаются большие праздники: столько всяких епитимий, отпущений, исповедей, бичеваний, анафематствований! Я не хочу утверждать, что аримаспийцы в этом лучше нас.
– А что, – сказал Панург, – вы скажете об этом человеке, милашечка мой, фредон? Не еретик ли он, чего доброго?
Фредон. И весьма.
Панург. Что ж, его надо сжечь?
Фредон. Надо.
Панург. И как можно скорее?
Фредон. Пожалуй.
Панург. Не поджаривая?
Фредон. Нет.
Панург. А как же?
Фредон. Живьем.
Панург. А что потом с ним будет?
Фредон. Умрет.
Панург. Что, он вас так рассердил?
Фредон. Увы!
Панург. А кто он, по-вашему?
Фредон. Безумец.
Панург. Безумец или бесноватый?
Фредон. Больше того.
Панург. А кем, вы хотите, чтобы он стал?
Фредон. Сожженным.
Панург. Жгли также и других?
Фредон. Многих.
Панург. Которые были еретики?
Фредон. Меньше его.
Панург. А еще будут жечь?
Фредон. Многих.
Панург. А вы их помилуете?
Фредон. Ни за что.
Панург. Не надо ли всех их сжечь?
Фредон. Надо.
– Не знаю, – сказал Эпистемон, – что вам за удовольствие рассуждать с этим злым оборванцем-монахом; если бы я раньше с вами не был знаком, у меня составилось бы о вас не очень лестное мнение.
– Да ну, ей-богу, сказал Панург, – я бы с охотой отвел его к Гаргантюа, – до того он мне нравится; когда я женюсь, он будет служить у моей жены шутом.
– И даже больше, – сказал Эпистемон.
– Получай свое вино, – сказал, посмеиваясь, брат Жан, – бедняга Панург, тебе уж никак не избежать стать рогоносцем!
ГЛАВА XXX. Как мы посетили Атласную страну
В этой главе Раблэ осмеивает путешественников – любителей чудесного баснословного. На острове Фризе находилась Атласная страна, «где ни деревья ни травы никогда не теряли ни листвы ни цветов», ибо были из дамасской ткани и тисненного бархата. Таковы же были животные и птицы, слоны там сидели за столами, молча пили и ели, как блаженные отцы – монахи – в трапезной. Плиний именно там видал пляшущих на канате под звон колокольчика слонов и гуляющих по столам во время пира, без помехи сотрапезникам…
Там был носорог; тридцать два единорога; золотое руно, завоеванное Язоном; хамелеон, питавшийся одним воздухом и больше ничем; три гидры, По семи голов у каждой; четырнадцать фениксов; кожа золотого осла Апулея; триста девять пеликанов; шесть тысяч шестнадцать птиц – селевкидов, стимфалид, гарпий и т. д. И другие всевозможные птицы и звери.
ГЛАВА XXXI. Сак в Атласной стране мы видали Наслышку, содержавшего свидетельскую школу
Проехав немного далее по этой Ковровой стране, мы увидали разверзшееся до самых пучин Средиземное море – точь-в-точь так, как в Аравийском заливе разверзлось Эритрейское море, дабы дать проход евреям, шедшим из Египта. Тут я признал Тритона, трубившего в свою больную раковину, Главка, Протея, Нерея и тысячу других богов и морских чудовищ. Мы увидали также бесчисленное количество всевозможных видов рыб, – пляшущих, летающих, порхающих, сражающихся, едящих, дышащих, спорящих, охотящихся, устраивающих засады, заключающих перемирия, торгующих, играющих и веселящихся. В углу, поблизости от них, мы увидали Аристотеля с фонарем в руке, в позе, похожей на ту, в какой рисуют около святого Христофора отшельника, высматривающего, обдумывающего и записывающего. Сзади него стояли, как сыщики, другие философы, как-то: Аппиан, Гелиодор, Атеней, Порфирий, Танкрат аркадийский, Нумений, Поссидоний, Овидий, Оппиан, Олимпий, Телевк, Леонид, Агафокл, Теофраст, Дамострат, Муциан, Нимфодор, и еще пятьсот других таких же праздных людей, как Хризипп или Аристарх Сольский, который пятьдесят восемь лет провел в наблюдении за бытом пчел, ничего другого не делая. Между ними я заметил Тьера Жилля, у которого был урыльник в руке и который был глубоко погружен в созерцание урины этих прекрасных рыб.
Вдосталь насмотревшись на Атласную страну, Пантагрюэль сказал:
– Я долго здесь насыщал свое зрение, но от этого отнюдь не чувствую себя сытым; желудок мой прямо бесится от голода.
– Ну что ж, попитаемся, попитаемся, – сказал я, – и попробуем этих анакампсеротов, что висят над нами. Фи, да они ничего не стоят!
Я взял тогда несколько плодов миробалана, висевших с одного конца ковра. Но я не мог ни прожевать, ни проглотить их; да и вы, попробовав их, сказали бы и поклялись, что это крученый шелк, без всякого вкуса. Можно было подумать, что Гелиогабал отсюда, как бы вторым изданием, заимствовал способ угостить тех, которых заставил долго пропоститься, обещая им роскошный, обильный и царский пир, – а подал им кушанья восковые, мраморные, глиняные и из расписной и узорчатой ткани.
Рыская по вышесказанной стране в поисках чего-нибудь съедобного, мы услышали резкий шум, будто женщины колотят белье или стучит мельничный толчок. Не медля мы направились к тому месту, откуда слышался шум, и увидали горбатого старикашку, маленького и чудовищно уродливого. Его называли Наслышкой; у него была пасть, растянутая до ушей, – а внутри пасти семь языков, или один язык, рассеченный на семь частей. Как бы то ни было, всеми семью языками вместе он говорил разное и на разных языках; по всей голове да и на всем остальном теле у него было столько же ушей, сколько когда-то у Аргуса глаз; кроме того он был слеп, а ноги его были в параличе. Вокруг старика я заметил невероятное число мужчин и женщин, внимательно слушавших его; некоторые из этой толпы показались мне миловидными; у одного из них в руках была карта вселенной, и он кратко, в лаконичных афоризмах, изъяснял, что в ней, – а слушавшие в несколько часов становились учеными людьми и говорили с большим изяществом об удивительных вещах, и все на память. Чтобы узнать хоть сотую часть всего этого, не хватило бы человеческой жизни. Говорили о нильских пирамидах, о Вавилоне, о троглодитах, о гимантоподах, о блемимиях, о пигмеях, каннибалах, гиперборейских горах, об эгипанах, обо всех чертях, – и все «по-наслышке». По-моему, я видел там Геродота, Плиния, Солина, Филострата, Мелу, Страбона и других древних; затем Альберта – великого якобинца, Петра Свидетеля, папу Пия II, Волатеррана, Паоло Джовио – достойного мужа, Жака Картье, Хайтона армянина, Марко Поло – венецианца, Людовика – римлянина, Педро Альвареса – и не знаю сколько еще других новейших историков, спрятавшихся за одним из ковров и втихомолку писавших прекрасные штучки, и все «по-наслышке».
Позади одного из бархатных ковров с изображением листьев мяты, вблизи Наслышки, я увидел множество першеронцев и жителей провинции Мэн, хороших студентов, еще молодых. Спросив у них, на каком факультете они занимаются, мы услышали в ответ, что с юного возраста они учатся быть свидетелями и так преуспели в этом искусстве, что, уехав отсюда и вернувшись к себе на родину, они честно живут своим ремеслом свидетеля, свидетельствуя обо всем в пользу тех, кто им больше платит, – и все «по-наслышке». Говорите об этом, что угодно, – но они нам отрезали от своей краюхи, и мы вволю напились из их боченков. После этого они нас сердечно предупредили, что нам надо, елико возможно, скупиться на правду, если мы хотим преуспеть при дворе знатных вельмож.
ГЛАВА XXXII. Как мы открыли Фонарную страну. Как мы сошли в Порту Светящихся Рыб и вступили в Фонарию
Плохо накормленные в Атласной стране, мы плыли, – продолжает рассказчик, – три дня, а на четвертый приблизились к Фонарной стране. На море там светились огоньки, – это были рыбы с огненным языком. По объяснению же лоцмана, не рыбы, а сторожевые огни, зажженные в честь чужеземных «фонарей» – францисканцев, отправляющихся туда на собрание «провинциального капитула».
Путники вошли в порт Фонарии. Близ него находилась деревня, населенная светляками, жившими на счет Фонарей, «как в наших краях живут на счет монахинь братья-сборщики» (т.-е. собиратели на женские монастыри).
Спутников провели к королеве, которая была одета в платье из горного хрусталя, усеянное крупными алмазами. Все Фонари, как знатные и большие, так и малые, были также украшены, – кто стразами, кто рогом, кто бумагой, кто вощеной тканью. Фонарь философа Эпиктета был просто глиняный, а считался одним из самых пышных: за него когда-то давали три тысячи драхм…
За ужином всем дали сальные свечи (королеве – факел из воска). По просьбе Панурга, изложенной на фонарном языке, королева соизволила предоставить спутникам на выбор любого из Фонарей из числа собравшихся на провинциальный капитул. Они хотели взять его в качестве проводника по дороге к оракулу Божественной Бутылки.
ГЛАВА XXXIII. Что подавали на ужин дамам Фонарии
В этой главе перечисляются сначала многочисленные закуски, затем разные кушанья и, наконец, танцы после обеда (около ста пятидесяти). Закуски – в роде таких: «вкусные щелчки», «чайники под винегретом», «стразы», «ерунда», «чепуха», «запеченные пустяки» и т. п. Во вторую очередь подавали:: «оставь меня в покое», «убирайся прочь», «расправься с ним сам», «рукоплескание», всякие ругательства и т. д. На последнее – блюда в таком же роде: «бредеден-бредеда», «галиматья», «тирлитантен», «прошлогодний снег» и т. п.
Некая старая Фонарка из пергамента до того перепилась на пиру, что потеряла по дороге и жизнь и смерть; это довольно часто случается в Фонарии.
Что касается танцев, то некоторые из них действительно исполнялись во времена Раблэ («Катерина», «Радость Пикардии», «Принцесса любви» и т. д.), другие, вероятно, выдуманы.
ГЛАВА XXXIV. Как мы прибыли к оракулу Бутылки
Под веселым освещением и руководством нашего благородного Фонаря мы прибыли на вожделенный остров, где помещался оракул Бутылки. Сойдя на землю, Панург резво подпрыгнул в воздухе на одной ноге и сказал Пантагрюэлю:
– Нынче мы нашли то, что искали с такими заботами и многоразличными трудностями.
Потом он вежливо поручил себя нашему Фонарю. Последний велел нам всем надеяться и отнюдь не пугаться, что бы нам ни предстало.
Приближаясь к храму Божественной Бутылки, мы должны были пройти среди большого виноградника, с лозами всяческих пород: тут были лозы – фалернская, мальвазийская, мускатная, бонская, мирвосская, орлеанская, мускатная, куссийская, гравская, анжуйская, корсиканская, верронская, неракская и другие. Означенный виноградник был некогда насажден добрым Бахусом, и с таким благословением, что все время приносил листья, цветы и плоды, как апельсинные деревья в Сан-Ремо. Наш великолепный Фонарь велел нам съесть каждому по три виноградинки, положить виноградных листьев в башмаки и взять в левую руку по зеленой ветке. У конца виноградника мы прошли под античной аркой, на которой находился трофей пьяницы, весьма тщательно вырезанный: это была предлинная вереница всяких флаконов, бутылей, бутылок, склянок, фляжек, бочек, боченков, штофов, кувшинов, пинт, а также античных сосудов, свисавших с тенистого навеса. Кроме того премного чесноку, луку, шарлоту, окороков, икры, круглых сыров, копченых бычьих языков, старого сыра и тому подобных закусок, перевитых виноградными лозами и с большим искусством связанных ветвями. Сверх того тут было до сотни видов рюмок, стаканов, кубков, бокалов, фиалов, кружек, чашек, стаканчиков, ковшей и тому подобной вакхической артиллерии. На самой арке, под зоофором, были написаны такие два стиха:
Пробираясь тайником,Запасайся фонарьком!– Этим, – сказал Пантагрюэль, – мы уже запаслись, во всем государстве Фонарии нет более божественного Фонаря и лучшего, чем наш!
Арка эта заканчивалась прекрасным широким туннелем, сплетенным из виноградных лоз, украшенных виноградинами пятисот различных цветов и пятисот различных форм, не натуральных, а полученных благодаря земледельческому искусству. Тут были желтые, синие, бурые, голубые, белые, черные, зеленые, лиловые, крапчатые, длинные, круглые, треугольные, квадратные, яйцеобразные, в форме венчика, бородатые, в форме кочана, волосатые… Конец туннеля был закрыт тремя античными плющами, ярко-зелеными и увешанными кольцами. Там наш светлейший Фонарь приказал, чтобы каждый из нас сделал себе из этого плюща по албанской шапочке и накрыл ею себе голову. Это было сделано без промедления.
– Под этим навесом, – сказал тогда Пантагрюэль, – никогда не осмелился бы пройти великий жрец Юпитера.
– Причина тому, – сказал наш пресветлый Фонарь, – мистическая, для обозначения того, что первосвященники, равно все лица, предающиеся и посвящающие себя созерцанию божественных вещей, должны сохранять свой дух в спокойствии и вне всякого смятения чувств, которое обнашивается в опьянении больше, чем в другой страсти, – ибо, проходя здесь, он имел бы вино, то есть виноград, над головой, и могло бы оказаться, что он как бы находится под началом и во власти вина. И вы равным образом не были бы допущены в храм Божественной Бутылки, раз прошли под этим навесом, если бы Бакбюк – благородная жрица – не увидала, что ваши башмаки полны виноградными листьями: это есть знак, диаметрально противоположный первому, и с очевидностью показывает, что вино вами презирается, попирается и находится у вас в подчинении.
– Я, – сказал брат Жан, – не учен, вот почему это мне не нравится. Но в требнике моем я нахожу, что в «Откровении», как удивительное явление, видели женщину, у которой была луна под ногами; это, как мне объяснил Биго, чтобы показать, что она иной расы и природы, чем другие женщины, у которых у всех луна, наоборот, в голове, и, следовательно, мозг у них всегда лунатический; оттого мне легко поверить в то, что вы говорите, Фонарь, друг мой!
ГЛАВА XXXV. Как мы спустились под землю, чтобы войти в храм Бутылки, и почему Шинон – первый город в мире
Таким образом мы спустились под землю через арку, покрытую штукатуркой, с грубо нарисованной снаружи пляской женщин и сатиров, которые сопровождали старика Силена, смеявшегося на своем осле. Тут сказал Пантагрюэлю:
– Этот вход пробуждает во мне воспоминание о размалеванном ребе первого в мире города; ибо там живопись такая же и такой же жести, как здесь.
– Где это, – спросил Пантагрюэль, – какой это первый город, о котором вы говорите?
– Шинон, – сказал я, – иначе Каинон, в Турени.
– Я знаю, где Шинон, – отвечал Пантагрюэль, – знаю также расписанный погреб, я там выпил много стаканов свежего вина, и нисколько не сомневаюсь в том, что Шинон – древний город; об этом свидетельствует его герб, на котором написано:
Шинон, дважды, трижды Шинон,Хоть мал он, но славится он,На древнем он камне стоит,У рощи, где Вьенна бежит.«Но почему этот город – первый в мире? Где вы нашли, что это написано? Каковы ваши предположения?»

– Я нахожу, – сказал я, – в священном писании, что Каин был первым градостроителем; поэтому вполне правдоподобно, что первый город он назвал по своему имени Каиноном, как впоследствии, в подражание ему, все другие основатели и устроители городов давали последним свои имена. Афина – это греческое имя Минервы – дала свое имя Афинам, Александр – Александрии, Константин – Константинополю, Помпей – Помпейополису, что в Киликии; Адриан – Адрианополю, Хана – хананеянам, Саба – сабеянам, Ассур – ассирийцам. Подобным образом названы и Птолемаида, Кесария, Тибериум, Геродиум в Иудее…
Пока мы таким образом беседовали, вышел большой Фляга, губернатор Божественной Бутылки, в сопровождении стражи храма, которая вся состояла из Французских Бутылочек. Заметив, что мы все с тирсами в руках (как я сказал) и увенчаны плющом, а также узнав нашего знатного Фонаря, он нас пропустил в полной безопасности и приказал, чтобы нас отвели прямо к принцессе Бакбюк – придворной даме Бутылки и верховной жрице при всех мистериях. Это и было сделано.