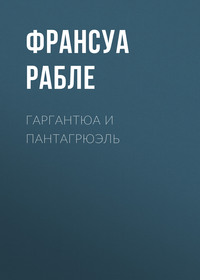полная версия
полная версияГаргантюа и Пантагрюэль
Но все эти жалобы и ропот происходили только от зависти. Брат Жан отдубасил палкой краснорожего и по спине и по животу, по рукам и по ногам, по голове и по всему телу, так что я уже считал его забитым насмерть. Потом он вручил ему двадцать экю. И негодяй вскочил, довольный как король или двое королей за раз.
Остальные говорили брату Жану:
– Г-н брат-дьявол! Если вы хотите еще кого-нибудь побить, и за меньшую сумму, – все мы к вашим услугам, г-н черт. Все целиком, с мешками нашими, бумагами, перьями и всем прочим!
Краснорожий заорал на них громким голосом:
– Ах вы, бездельники, так вы на мой рынок лезете! Хотите заманить и отбить у меня покупателей? Вызываю вас на суд на восьмое мартобря. Я потягаюсь с вами, черт возьми!
И потом, повернувшись к брату Жану, сказал ему с веселым и радостным лицом:
– Достопочтенный отче, дьявол, господин! Если вы во мне нашли хороший материал и вам угодно еще поразвлечься и меня поколотить, я удовлетворюсь половинной платой, цена справедливая. Не щадите меня, пожалуйста. Я весь, как есть, в вашем распоряжении, г-н черт: с головой, легкими, потрохами и всем прочим. Я с вас беру не дорого.
Брат Жан прервал его и отошел в другую сторону. А прочие кляузники в это время обступили Панурга, Эпистемона, Гимнаста и других, смиренно умоляя побить их за самую маленькую цену, иначе они подвергаются опасности очень долго поститься. Но никто их не слушать.
ГЛАВА XVII. Как Пантагрюэль прошел острова Тогю и Богю, и о странной смерти Бренгнарилля, глотателя ветряных мельниц
В тот же самый день Пантагрюэль прошел два острова – Тогю и Богю, на которых не нашли ничего съедобного. Бренгнарилль, странный гигант, за недостатком ветряных мельниц, которыми он обыкновенно питался, поглотил все сковороды, котлы, кастрюли, горшки и даже печи и печурки на острове. Вследствие этого, под утро, в час пищеварения он тяжело заболел несварением желудка, вызванным тем, что (как говорили врачи) пищеварительная сила его желудка, естественно приспособленная к перевариванию ветряных мельниц, не могла переварить вполне печей и жаровен; котлы и горшки переваривались довольно хорошо, о чем свидетельствовали мочевые осадки в четырех бочках его мочи, дважды выпущенной им в это утро.
Чтобы ему помочь, прибегали к разным средствам. Однако болезнь оказалась сильнее лекарства. И благородный Бренгнарилль скончался в то же утро, при чем так странно, что не более изумительна была смерть Эсхила, которому было предсказано кудесниками, что он умрет в определенный день от падения на него какого-то предмета. Когда назначенный день настал, Эсхил вышел из города, удаляясь от всяких домов, деревьев, скал и всего такого, что могло упасть и своим падением причинить ему вред. Он оставался посреди широкого луга, поручив себя открытому небу, будучи, как ему казалось, в полной безопасности, если только небо не упадет на него, что он считал невозможным.
Однако говорят, что жаворонки очень боятся падения неба. Упадет небо – все они попадутся. Этого же боялись когда-то и прирейнские кельты; это были благородные, воинственные, рыцарски – доблестные и победоносные французы. Когда Александр Великий спросил их, чего они боятся больше всего на свете, вполне надеясь, что они сделают исключение для него одного, в виду его великих подвигов, побед, завоеваний и триумфов, – кельты ответили, что они ничего не боятся, кроме того, чтобы на них не упало небо. И тем не менее они не отказывались войти в союз и дружбу с таким великодушным и доблестным царем, как он (если верить Страбону (книга VII) и Арриану (книга I)).
Также и Плутарх рассказывает в написанной им книге – «О лице, показывающемся на теле луны», – про некоего Фенака, очень боявшегося, как бы луна не упала на землю, и очень жалевшего тех, кто живет под луной, как эфиопов и тарробанийцев, если вдруг на них упадет такая громада! Он боялся также за небо и землю: достаточно ли крепко держатся они на столбах Атланта, как думали древние, по свидетельству Аристотеля (VI книга «Метафизики»).
Тем не менее Эсхил был убит, благодаря падению черепахи, которая, выпав из когтей орла, парившего высоко в воздухе, ему на голову, пробила череп.
Далее Раблэ приводит целый ряд удивительных смертей: поэт Анакреон подавился виноградным зернышком. Претор Фабий задушен был козьим волосом, попавшим в чашку молока. Некий стыдливый человек умер от задержания в кишках ветров, которых он не хотел выпустить в присутствии римского императора Клавдия. Кто-то умер от укуса кошки в мизинец; кто-то – от укола иглы, такого слабого, что и следа от него не оставалось. Филомен умер от смеха, следя за движениями осла, пожиравшего его фиги. Живописец Зевксис умер от смеха при взгляде на портрет старухи собственной работы.
Бренгнарилль (увы!) задохнулся и умер, проглатывая кусок свежего масла перед жарко натопленной печкой – исполняя предписание лечившего его врача.
В конце главы Раблэ называет немало выдуманных островов, мимо которых проплыли путешественники, объясняя попутно, что «острова Тенелиабиц и Женелиабин» – острова, плодородные на клистиры – носят названия, значащие: по-арабски «манна» и «мед». Также они проехали острова «Эниг» и «Эвигс» (немецкие слова), от которых гессенский ландграф так тяжко пострадал.
ГЛАВА XVIII. Как Пантагрюэля застигла на море буря
На следующий день мы встретили справа девять судов, нагруженных монахами: якобинцами, иезуитами, капуцинами, эренитами, августинцами, бернардинцами, селестинцами, тэатинцами, игнатинцами, францисканцами, кармелитами и прочими святыми иноками, которые направлялись на Шезильский собор, чтобы отстаивать истинное вероучение против новых еретиков.
При виде их Панург чрезвычайно обрадовался, будучи уверен в полном благополучии и на этот и на длинный ряд ближайших дней. Учтиво приветствуя блаженных отцов и поручив спасение своей души их благочестивым молитвам, он приказал бросить на их суда семьдесят восемь дюжин окороков, порядочно икры, несколько десятков колбас, несколько сотен соленых осетров и две тысячи золотых монет – за упокой душ отошедших.
Пантагрюэль оставался задумчивым и печальным. Брат Жан заметил это и спросил его, чем он так непривычно огорчен, когда шкипер, смотря, как завертелся на корме флюгер, и предвидя мучительные неприятности и новый шторм, приказал всем быть настороже – как матросам, прислуге и юнгам, так и нам, пассажирам; велел убрать паруса почти на всех мачтах, спустить булинь и из всех рей оставить только боковые.
Море внезапно начало вздуваться и бушевать со дна пучины; крупные валы стали бить в борта наших судов; мистраль, сопровождаемый неистовым вихрем, со страшными порывами, яростными смерчами и смертоносным шквалом, засвистал в реях. Небо гремело, грохотало, сверкало молниями; хлынул дождь, ударил град, воздух утратил прозрачность и стал темен и непроницаем. Только свет от бороздящих небо молний да разверзающихся краев освещаемых ими туч прерывал по временам страшную тьму…
Отвратительные и ужасные змеи повисли на гребнях волн. Вы поверите, что нам казалось, будто это древний хаос, в котором смешались огонь, воздух, вода, земля, – словом, все стихии вокруг нас.
Панург, хорошо покормивший рыб содержимым своего желудка, сидел на корточках на палубе в полном изнеможении и полумертвый от расстройства чувств. Он призывал на помощь всех святых обоего пола и требовал, чтобы его тут же кто-нибудь отъисповедал. Потом закричал в диком ужасе:
– Мажордом, го-го! Друг мой, батюшка, дядюшка! Дайте чего-нибудь соленого. Нам скоро придется наглотаться воды, как я вижу. Мало есть и хорошо пить – вот отныне мой девиз. О, если бы бог и благословенная достойная святая дева Мария соизволили, чтобы я теперь, то есть вот именно сейчас, находился где-нибудь на твердой земле, в полном покое! О, трижды и четырежды счастливы те, кто сажает капусту!
О Парки! Зачем вы из меня не выпряли человека, сажающего капусту! О, как мало число тех, к которым Юпитер настолько был благосклонен, что предопределил им сажать капусту. Они всегда стоят на земле одной ногой, другая тоже неподалеку. Кто хочет, пусть ведет диспуты о счастии и о высшем благе, но, по моему рассуждению, сейчас тот, кто сажает капусту, должен быть признан счастливее всех, и с гораздо большим правом, чем Пиррон, который, находясь в такой же, как мы, опасности и увидев на берегу поросенка, евшего рассыпанный ячмень, объявил его вдвойне счастливым: во-первых – потому, что у него ячменя в изобилии, и во-вторых – потому, что он находился на твердой земле.
«Эта волна унесет нас, господь-спаситель! Друзья мои, хоть немного уксусу! Я весь вспотел от волнения. Увы! Увы! Паруса оборваны, снасти лопаются, верхние реи упали в воду. Нос корабля поднят прямо к солнцу, якорные канаты почти все порвались. Увы! Увы! Где наши компасы? Все пропало, о господи! Киль опрокинулся. Увы! Увы! Кому достанутся эти обломки? Друзья, позвольте мне спрятаться сюда, за перила. Ну, ребята, фонарь упал! Смотрите, не выпускайте из рук ни румпеля ни талей! Я слышу, как трещит корма. Не сломался ли руль? Ради бога, берегите канаты! Бе-бе-бе, бу-бу-бу! Взгляните-ка на стрелку компаса, – пожалуйста, господин звездочет! – откуда ветер? Честное слово, мне страшно! Бу-бу-бу-бу-бу! Ну, кончено! Я уж напустил в штаны от страха! Бу-бу-бу-бу! От-то-то-то-то-ти! От-то-то-то-то-то-ти! Бу-бу-бу! У-у-у! Бу-бу-бу! Бу-бу-бу-бус! Тону! Тону! Тону! Умираю! Помогите, добрые люди! Тону!»
ГЛАВА XIX. Как держались Панург и брат Жан во время бури
Предварительно воззвав о помощи к богу-спасителю и совершив общее благочестивое моление, Пантагрюэль, по совету шкипера, крепко держал мачту. Брат Жан в одной куртке помогал матросам; Эпистемон, Понокарт и другие – тоже. Один Панург оставался сидеть на палубе, причитая и заливаясь слезами.
Брат Жан, проходя в кубрик, увидел это и сказал:
– Ей – богу, Панург – теленок, Панург – плакса, Панург – крикун! Ты гораздо лучше бы сделал, если бы помогал нам здесь, чем реветь там как корова, сидя как идол.
– Бе-бе! Бу-бу! – отвечал Панург. – Брат Жан, друг мой, отец мой родной, я тону, я тону, друг мой, я тону! Со мной – кончено, отец мой духовный, кончено со мной, мой друг! Вы уж меня не спасете и своим мечом. Увы, увы! Мы уж по ту сторону линеек, всю гамму прошли! Бе-бе-бе! Бу-бу-бу! Увы! Мы уж теперь ниже приписного «до»!
Я тону! Ах, отец мой! Дядя мой! Все мое! Вода уже прошла мне в башмаки через колет! Бу-бу-бу! Гу-гу-гу! Га-га-га-га! Я тону! Увы, увы! Гу-гу-гу-гу-гу-гу! Бе-бе-бу-бу-бо-бу! Бо-бу! Го-го-го! Го-го! О-ге! Увы! Сейчас я как вилообразное дерево – ногами вверх, головой книзу. Дай бог, чтобы я в эту минуту оказался в барке добрых, блаженных соборных отцов, которых мы встретили утром, таких набожных, жирных, веселых, милых и обходительных! Го-ла! Го-ла! Го-ла! О-ге! О-ге! Увы!
«Эта дьявольская волна (mea culpa, deus![249]), я говорю, эта божья волна зальет наш корабль! Увы! Брат Жан, отец мой, друг мой, исповедуйте меня! Видите, я на коленях. Верую, господи! Ваше святое благословение!»
– Ты, чортов висельник, – сказал брат Жан, – иди нам помогать, тридцать легионов чертей! Пойдешь ты или нет?
– Не будем ругаться в такой час, отец мой, друг мой, – сказал Панург. – Вот завтра – сколько угодно. Го-ло! Го-ло!
Спор продолжается. Брат Жан передразнивает Панурга и негодует; тот вопит и не сходит с места. Между прочим, просит помочь ему составить завещание. Брат Жан возмущается: можно ли говорить о завещании, когда нужно работать? Панург молит святых Николая-Угодника и Михаила-Архангела спасти его, обещая построить им «часовню или две» на меже, между местечками Канд и Монсоро, «где ни корове ни теленку пастись негде».
ГЛАВА XX. Как матросы покидают корабли, предоставляя их ярости бури
Перебранка между Панургом и братом Жаном продолжалась, при чем первый даже не ругался, а только язвил и шутил. А не то стонал: «Бе-бе-бе! Бу-бу-бу!» Он предлагал за то, чтобы его как-нибудь выбросили на твердую землю, весь Сальмигонден и весь свой запас улиток…
Вдруг шкипер приказал: «Ложиться в дрейф». Ужас Панурга был неописуем. Он предлагал всем дать какой-нибудь обет, совершить большое паломничество. «Каждый подумай о своей душе!.. Надеяться можно лишь на помощь небесного чуда!» Даже Пантагрюэль пришел в волнение.

– Что же галс! – воскликнул брат Жан. – Тысяча чертей! На штирборт! Ложись в дрейф, бога ради! Румпель долой! Ложись в дрейф! Ложись в дрейф! Ну и выпьем! Самого лучшего выпьем, желудочного! Слышите вы там, мажордом? Тащите сюда! Вынимайте! Ведь все равно вино ваше отправится к миллионам чертей! А ты, паж, подай сюда мой пробочник (так он называл требник). Постойте! Давай сюда, мой друг! Так, божьей милостью! Ну и град! Ну и молнии! Держите вы там повыше, пожалуйста! А когда у нас праздник всех святых? Думаю, что сегодня тоже праздник, да только всех чертей.
– Увы! – сказал Панург. – Брат Жан губит свою душу в кредит. О, какого я хорошего друга с ним теряю! Увы! Увы! Еще хуже, чем прежде! Мы идем от Сциллы к Харибде. Увы! Тону! Верую, господи! Хоть одно словечко в завещание, брат Жан, отец мой! Друг мой рассудительный, Ахат мой, Ксеноман мой! Мое все! Тону, тону! Хоть два слова завещания. Вот здесь, на этой скамеечке!
ГЛАВА XXI. Продолжение бури и короткий разговор о завещаниях, которые составляются на море
– Составлять завещание, – сказал Эпистемон, – теперь, когда нам следует изо всех сил стараться помогать экипажу предотвратить крушение, мне кажется поступком таким же неудачным и неуместным, как неуместно было поведение оруженосцев и любимцев Цезаря, наступавшего на Галлию, когда они забавлялись составлением завещаний и всяких бумажек, жаловались на свою судьбу и плакали о том, что с ними нет ни жен ни римских друзей, в то время как необходимость требовала схватиться за оружие и напрячь все силы против врага их Ариовиста.
«Это такая же глупость, как того возчика, который, когда его телега опрокинулась, стал на коленях, умолять о помощи Геркулеса, вместо того чтобы приложить руки и поставить телегу на колеса и погнать волов. К чему послужит вам писание завещания? Ведь мы или спасемся от этой опасности, или потонем. Если спасемся – завещание будет ни к чему. Завещание имеет значение и утверждается лишь смертью завещателя. Если мы потонем – не потонет ли и завещание вместе с нами? Кто же доставит его исполнителям?
– Какая-нибудь добрая волна, – отвечал Панург, – выбросит его на берег, как Улисса; и какая-нибудь дочь короля, выйдя на прогулку на солнышко, найдет его и приведет в исполнение. А на берегу воздвигнет мне великолепный памятник, как Дидона своему мужу Сихею; Эней – Деифобу на Троянском берегу, близ Реты; Андромаха – Гектору в городе Бутроте.
Дальше продолжается перечень знаменитых памятников. Вместо того чтобы работать, все спорят. Вдруг Пантагрюэль громко и жалобно воскликнул: «Господи боже, спаси нас! Мы гибнем! И да будет не так, как мы хотим, – но да исполнится святая воля твоя!»
Панург взывал:
– С нами бог и благословенная дева Мария! Го-ла! Го-ла! Я тону! Бе-бе-бе-бус! Бе-бе-бе-бус! В руки твои! Боже истинный, пошли мне какого-нибудь дельфина, чтобы он меня отнес на сушу, как некогда малыша Ариона. Я отлично сыграю на арфе, если цел ее гриф.
– Отдаю себя всем чертям! – воскликнул брат Жан.
– С нами бог! – произнес Панург сквозь зубы.
– Если я доберусь до тебя, я тебе докажу, что ты – теленок двуногий, двурогий, безрогий. Иди же помогать нам, ты, плаксивый теленок, тридцать миллионов тебе чертей! Пойдешь ты, морской теленок? Фу, какой ты отвратительный плакса!
– Вы ничего другого не скажете?
– Ну, веселый мой требничек, вперед, сюда! Поглажу тебя против шерстки. «Блажен муж, иже не иде». Наизусть помню все. Прочитаем, например, житие господина Николая-Угодника:
Horrida tempestas montem turbavit acutum[250].«Грозой звали в коллеже Монтегю педагога, который страшно сек школьников розгами. Если педагогов, которые секут бедных маленьких ребят, невинных школьников, осуждают в ад, то, клянусь честью, он там привязан к колесу Иксиона и должен розгами погонять ту самую куцую собачонку, что вертит колесо, – ну, а если сечением невинных ребят они спасают свою душу, то быть ему над…»
ГЛАВА XXII. Конец бури
– Земля, земля! – закричал Пантагрюэль. – Я вижу землю. Друзья, ободритесь! Мы недалеко от гавани. Я вижу, небо с северо-запада уже начинает проясняться. Чувствуете вы сирокко?
– Мужайтесь, ребята! – закричал шкипер. – Течение стало слабеть. К румпелю! Сюда, сюда! Бизань-мачту крепите! Канат на кабестан! Поворачивай! Руку на руль! Сюда, сюда, сюда! На другой галс! Травить! Готовь бизань! Румпель под ветер! Ты, с… сын, к штирборту!
– Тебе, милый человек, – сказал брат Жан матросу, – верно, очень приятно было узнать, чей ты сын.
– Тяни вверх! До конца!
– Есть, – отвечали матросы.
– К себе, к себе! Сюда, сюда! Поворачивай на другой галс!
– Прекрасно сказано, мысль хорошая, – одобрил брат Жан.
– Наверх, ребята, наверх! Аккуратнее! Хорошо! К себе! На штирборт!
Шкипер попутно хвалит работу Понократа и продолжает командовать.
– О, – закричал Эпистемон, – теперь мой приказ – надеяться и надеяться. Направо я вижу звезду Кастора.
– Бе-бе! Бу-бу-бу! – кричал Панург. – Очень боюсь, что это не Кастор, а Елена распутница.
– Это действительно, – возразил Эпистемон, – Миксархагевас, если тебе больше нравится название аргивян. Гей! Гей! Я уже вижу землю! Вижу гавань! Вижу множество людей на пристани. Я вижу отсюда огни над обелиском.
– Гей! Гей! – кричал шкипер. – Огибайте мыс и отмели.
– Есть, – отвечали матросы.
– Подходят, – сказал кормчий, – сторожевые суда. Помощь во-время.
– Святой Иоанн, – закричал Панург, – вот это сказано! Прекрасные слова!
– Мня-мня-мня! Бе-бе-бе! – говорил брат Жан. – Если ты попробуешь хоть каплю моего винца, – пусть дьявол меня самого попробует. Слышишь? Извольте, друг наш, полный кубок самого лучшего. Эй, Гимнаст, принеси кувшины да большой пирог с ветчиной. Да смотри, не урони по дороге.
– Мужайтесь, дети! – закричал Пантагрюэль. – Мужайтесь! Будьте учтивы! Видите, около нашего корабля две ладьи, три барки, пять лодок восемь каперов, четыре гондолы, шесть фрегатов, которые люди с этого ближайшего острова посылают нам на помощь. Но кто это так кричит и жалуется? Разве я один держу мачту не крепче и не прямее, чем двести канатов?
– Это, – отвечал брат. Жан, – бедняга Панург, – у него телячья горячка. Он дрожит от страха, когда пьян.
– Если, – сказал Пантагрюэль, – он испытывал страх только во время страшной бури и опасного урагана, а в остальное время выказывал неизменную доблесть, я от этого уважаю его ни на волос не меньше. Ибо как вечный страх есть признак грубого и низкого сердца, – как у Агамемнона, за что Ахиллес порицал его и говорил, что у него собачий глаз и оленье сердце, – так и отсутствие страха в случае очевидной опасности есть признак отсутствия или недостатка предусмотрительности. Однако, если и есть что-нибудь, чего стоит бояться в этой жизни, кроме того, чтобы оскорбить бога, – то я не скажу, что это смерть. Не буду вступать в спор с Сократом и академиками, утверждавшими, что сама по себе смерть не так уж плоха, – самой смерти бояться вообще не стоит. Но еще и Гомер думал, что ужасно тяжело, отвратительно и противоестественно погибнуть на море. Действительно, Эней во время бури, которой были застигнуты его корабли близ Сицилии, стал сожалеть, что не погиб от руки силача Диомеда, и говорил, что трижды и четырежды счастливее те, что погибли во время пожара Трои. А ведь из нас никто не погиб! Вечная слава богу-спасителю! Но наше хозяйство пришло в полный беспорядок. Ну что же! Нужно будет поломанное починить. Берегитесь, чтобы не сесть на мель.
ГЛАВА XXIII. Как по окончании бури Панург снова сделался славным парнем
– Ага-га! – закричал Панург. – Все прекрасно! Буря прошла. Прошу вас, пожалуйста, позвольте мне сойти первым. Мне очень бы хотелось сходить по моим делам. Могу я вам чем-нибудь помочь? Позвольте мне свернуть этот канат. Храбрости у меня довольно, я думаю. Страха очень мало. Давайте-ка, дружок, давайте его! Страха? Ни чуточки! Хотя, по правде сказать, этот девятый вал, прокатившийся с носа до кормы, немножко попортил мне кровь. Парус долой? Прекрасно!
«Как? Вы ничего не делаете, брат Жан? Время ли пить в такой час? Почем знать, может, спутник святого Мартина» нашлет на нас сейчас новую бурю.
«Не помочь ли вам еще чем-нибудь? Я очень раскаиваюсь, да поздно, что я не следовал учению добрых философов, которые говорят, что прогуливаться у моря, плыть у земли – вот самое верное и приятное дело, как прогуливаться пешком, когда вашу лошадь ведут под уздцы. Ха-ха-ха, – ей-богу, все прекрасно! Не помочь ли вам еще чем-нибудь? Давайте, я отлично управляюсь с этим, если черт не попутает».
У Эпистемона вся рука была ободрана и окровавлена, оттого что он изо всех сил удерживал один из канатов. Услышав речь Пантагрюэля, он сказал:
– Поверьте, государь, что и я был напуган и боялся не меньше Панурга. И что же? Я не щадил себя, помогая в работе. Я считаю, что если смерть есть роковая и неизбежная необходимость, то умереть в такой-то и такой-то час, тем или иным образом – в святой воле божией. Поэтому нужно неустанно молиться ему, просить, умолять его, взывать к нему. Но этим нельзя ограничиваться: следует и с нашей стороны быть деятельным и, как говорит священное «Послание», быть в содействии с ним. Вы знаете, что сказал консул Кай Фламиний, когда, благодаря хитрости Ганнибала, он оказался запертым у Перуджийского – так называемого Тразименского – озера? «Дети, – сказал он солдатам, – чтобы отсюда выйти, вам не следует полагаться на молитвы и обеты богам. Нет, выйти отсюда надо, действуя силой и доблестью, проложив дорогу посреди неприятеля мечом». И, по. Саллюстию, помощь богов, как сказал Марк Порций Катон, добывается вовсе не пустыми обетами и женским плачем. Бдением, трудами, доблестью достигается желанный успех во всех делах. Если в нужде и в опасности человек сам небрежен, слаб и ленив, то напрасно он взывает к богам, – те только раздражаются и приходят в негодование.
– Черт меня побери… – сказал брат Жан.
– И меня – половину! – сказал Панург.
Брат Жан продолжал:
– …если виноградник в Севилье не будет обобран и уничтожен, когда я буду только петь: «От врагов злоумышления избави!» – как делают прочие черти-монахи, вместо того чтобы древком от креста отбивать виноградник от лернейских разбойников.
– Плыви, моя ладья, – воскликнул Панург, – все идет хорошо; только брат Жан ничего не делает и смотрит на меня, как я в поте лица работаю, чтобы помочь этому славному матросу, из матросов первому. Дружище! Два словечка только – не рассердитесь! Какой толщины доски на этом корабле?
– Не бойтесь, в два добрых пальца, – отвечал шкипер.
– Господи помилуй, – сказал Панург, – так мы, значит, всегда всего на два пальца от смерти! И это-то одна из девяти радостей брачной жизни! А вы, друг наш, прекрасно делаете, что измеряете опасность на локти. Что до страха, так у меня его ни капли! Меня зовут Гильом Бесстрашный. Я храбр, как он, и даже больше. Я имею в виду не овечью храбрость, а волчью, убийственную для других, и не боюсь ничего, кроме опасности.
ГЛАВА XXIV. Как брат Жан объявляет, что Панург без причины трусил во время бури
– Добрый день, господа, – сказал Панург. – Добрый день всем… Вы все здоровы? Слава богу! А вы? Добро пожаловать! Сойдем на берег. Лестницу сюда, эй! Бросайте сходни! Лодку, лодку поближе! Надо ли вам помочь? Я голоден как волк, поработав как четыре вола! Правда, прекрасное место и хорошие люди! Дети, нужна вам еще моя помощь? Ради бога, не жалейте моего пота. Адам, то есть человек, рожден для того, чтобы в поте лица трудиться, как птица – для того, чтобы летать. Наш господь – вы слышите? – желает, чтобы мы в поте лица ели хлеб наш, а не так, ничего не делая, как вот этот оборванец монах, брат Жан, который только пьет и умирает со страху.
«Вот прекрасная погода! Теперь я понял, насколько правилен и основателен был ответ благородного философа Анахарсиса, который, когда его спросили, какое судно считает он самым надежным, отвечал: «То, которое стоит в гавани».
– Еще лучше, – сказал Пантагрюэль, – когда на вопрос, кого больше – мертвых или живых, он спросил: «А среди кого вы считаете плавающих по морю?» – этим тонко дав понять, что те, кто плавает по морю, столь всегда близки к смертельной опасности, что они ни живые, ни мертвые. Также и Порций Катон говорил, что он раскаивался бы только в трех вещах: если бы он когда-нибудь доверил свою тайну женщине, если бы провел хоть один день в праздности, и если бы он вздумал отправиться по морю в такое место, куда можно добраться по суше.