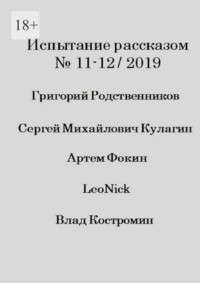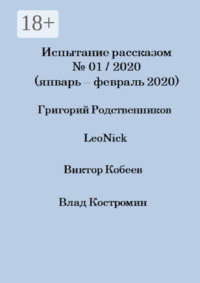Полная версия
Наследники Мишки Квакина. Том IV
– Тебя министром сделали? – радостно прокричал Пашка.
Родители переглянулись.
– Валь, надо было делать аборт, – отец покачал головой, – говорил же.
– Уже поздно. Короче, – объяснила мать, – батя ваш все яблоки скупил.
– Какие яблоки? – не понял я.
– Все деревенские яблоки, – расплылся в широкой пугающей улыбке отец, – можно сказать, на корню.
– Зачем? – в животе появился какой-то ледяной комок, и он все разрастался, словно катясь со снежной горки.
– Валь, я же говорю, они балбесы. Ладно, – отец сиял будто начищенный самовар, – объясню. Все яблоки у меня – значит, я монополист, как капиталист, и могу устанавливать цену. Ясно?
– Ясно, – кивнул я, – но кому ты их будешь продавать?
– Приедут покупать скоро.
– Кто?
– Объявления на всех столбах висят, что будут покупать яблоки дорого. Это вы ничего не читаете, а батька ваш не спит! Они приедут, а тут я такой! Опа-на!
Мы с Пашкой потрясенно переглянулись.
– Вы, кстати, хватит трепаться. СтаршОй, там мешки в летучке у Лобана – перенесите их на веранду все.
Через полчаса на веранде выстроились двадцать три мешка с яблоками. И это не считая трех наших…
– Теперь нам конец, – простонал Пашка.
– Угу.
Когда черед пару дней стало ясно, что никто не приедет за яблоками, мать приказала их есть. Правда, один мешок мы успели распродать не успевшим очухаться детям. От участи лопнуть от яблок спасла только соковыжималка. Я давил яблоки на ней, рядом Пашка вращал ручку мясорубки, перекручивая яблоки на вино. Часть яблок засушили.
Отец, чтобы не выглядеть в глазах людей полным дураком, распустил слухи, что невероятно выгодно продал яблоки. Нам об истинном положении дел рассказывать запретил. Мать, чтобы компенсировать потраченные супругом деньги, два месяца кормила нас одними яблоками.
– Ни зьим, так надкушу, – вздыхал отец и тоже уныло хрустел яблоками, запивая кислым яблочным компотом и закусывая блинами, сделанными из яблочного жома. – Валь, пирожков бы что ли сделала, с яблоками.
– А тесто где взять, хамаидол? – всплескивала руками мать. – Может тебе еще котлету по-киевски сделать, опенок лысый?
– Хорошо бы.
– Нечего было деньги на яблоки тратить, жрал бы сейчас мясо!
Санта-Барбара
Говорят, что когда в СССР показывали фильм «17 мгновений весны», то городские улицы просто вымирали – все, затаив дыхание, застывали перед голубыми и черно-белыми экранами. Я этого не застал. У нас было совсем другое: деревня открыла для себя «Санта-Барбару». Ни рабыня Изаура, ни тоже плачущие богатые не смогли вызвать такого отклика в бесхитростных сердцах деревенских жителей, как жизнь далекого калифорнийского городка. «Санта-Барбара» вошла в деревенскую жизнь внезапно, как лавина, и застряла в ней словно топор в суковатом полене. Вскоре бабушки уже не мыслили свою жизнь без дорогой мелодии: «Ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ду-ду-ду». Мейсон, Иден, Круз и Си-Си Кэпвелл стали всем просто родными.
– Здорово, Степановна, – приветствовала подругу склочника Максиманиха, гоня поутру корову в стадо.
– Здорово, Захаровна. Как там Си-Си?
– Лежит, болезный, – смахивала платочком слезу Степановна, – а моего-то ирода никакой паралич не берет.
– Твоего любой кондратий стороной обойдет. А Иден-то, ась?
– Ишь ты, – Степановна грозила крепким еще кулачком, – вертихвостка городская!
– Крутит она, а Круз, итить, и не знает, поди.
– Не знает, – вздыхала Степановна. – Она ему рога наставляет, а он-то сурьезный, с намереньями. Бровищи вон какие, как у Брежнева почти.
– Смуглый, ладный, с пистолетом, что ей еще надо?
– Городская, оне все такие – проститутки, прости Господи.
– А ты, Степановна, напиши ему, чтобы знал.
– А ведь и правда, Захаровна, надо написать.
– Слышь, Фрол Прохорович, – вернувшись домой, закричала через забор Максиманиха. – Выйди.
– Чего тебе, Марфа Захаровна? – высунулся из сарая дед Бутуй.
– Я вот подумала, что-то у нас в деревне, кажись, сексу мало.
– Чего мало?
– Сексу, говорю, мало, пень глухой.
– Все я слышу, просто не вразумлюсь, чой-то за секс такой?
– Ну, это когда с бабой на сеновале.
– Это да, с бабами на сеновале у нас мало.
– Я вот подумала, – Максиманиха огладила свои бока, – что я вроде как Августа, тока помоложе, а ты навроде как Си-Си, только постарше и пострашнее.
– Что за сиси такие?
– Мужик такой, представительный, как Владимирыч наш.
– Это да, я мужик хоть куда, – приосанился Бутуй.
– Может нам того, на сеновал, как в молодости?
– Ты али одурела, дура старая? – испугался дед. – Али не в себе? С дуба рухнула?
– Сам ты дурак старый! – обиделась несостоявшаяся Августа. – Я себе молодого заведу. Вот хучь и Кольку Красотьевича.
– Нужна ты Кольке. У него свинья под боком, сытая да гладкая, и хрюкает меньше тебя, – мелко захихикал в прокуренную бороду Бутуй.
– Ты у меня сам дохрюкаешься, пень трухлявый! Напишу Крузу, приедет и рога тебе посшибает, – зашла в дом, громко хлопнув дверью.
В далекую, но такую близкую сердцу Санта-Барбару устремился целый поток писем. Кто-то писал доносы, открывая одним персонажам неприглядное поведение других; кто-то жаловался на жизнь; кто-то признавался в любви Иден или Крузу. Даже наш папаша не устоял.
– Ты, Си-Си, – диктовал Пашке, у которого стараниями матери был самый красивый в семье почерк4, – это самое, твердо держись марксизма и диалектики. Написал?
– Сейчас, чуть осталось, – Пашка от усердия высунул язык. Он впервые писал письмо американскому миллионеру и был необычайно горд собой, – все, написал.
– Спуску бабам не давай, – отец выпустил к потолку струю дыма, – но при этом помни, как говорил наш замечательный сатирик товарищ Райкин…
– Витя, – прервала мать, – про Райкина не надо, мало ли. Слово не воробей – вылетит, и поймают.
– Хм, точно. МладшОй, про Райкина вычеркни, а то в космополитизме еще обвинят или сионизме. Пиши так: помни, что женщина друг человека, что наглядно доказали Клара Цеткин и Роза Люксембург, проведя марш пустых кастрюль.
Пашка послушно скрипел ручкой, отец курил, я пытался раскусить смысл его фраз, мать привычно мотала ниточки на палец, сортируя.
– Еще скажу тебе, Си-Си, что необходимо тебе вступить в ряды коммунистической партии, пусть даже и американской, ибо только тогда ты сможешь вооружиться учением Маркса. А учение Маркса всесильно, ибо оно верно. Что еще?
– Про дочек скажи, – подсказала мать.
– Точно! – он хлопнул себя по блестевшему потом лбу. – Про мокрощелок этих надо заострить вопрос. Пиши: ты обрати внимание на моральный облик своих дочерей, ибо моральный облик их как у городских шалав.
– Вить, что ты говоришь? – возмутилась мать. – У них шалавы наверное только в Нью-Йорке, а Санта-Барбара городок маленький.
– Точно, про шалав не пиши. Пиши: проституток. А вот были бы комсомолками, все было бы по-другому. Иден девка добрая, грудастая, на Лариску нашу похожа…
– Про Лариску не пишите, – покачала головой мать.
– Хорошо, вычеркни. Пиши: добрая, но безмозглая, как Лар.., тьфу ты! Пиши так: и этим может воспользоваться смуглый.
– Круз, – подсказала мать.
– Во-во, Круз могет воспользоваться. А ведь он полицейский, значит, притеснял негров, а это уже апартеид.
– Круз убил Нельсона Мандулу? – спросил Пашка.
Родители переглянулись.
– Нет, не Круз, – покачал головой отец, – но похожий бледнокожий держиморда. Не отвлекайся, пиши. Так что следи, а то принесет в подоле смуглого.
– Витя, тут же дети!
– Ну… – папаша звучно поскреб лысину. – Короче, Круз ваш – расист и работорговец, пустой человек и фигля-мигля, гоните его в шею! Что еще? – посмотрел на мать.
– Про младшую надо, про Келли.
– Надо, – он закурил следующую сигарету. – Пиши: Келли девка видная, но без царя в голове. Надо ее в секцию какую-нибудь пристроить или в кружок отдать.
– Театральный, – подсказала мать.
– Пиши: в театральный. Ребята у тебя шебутные, пустобрехи, честно скажу, могут и до тюрьмы допрыгаться. Мэйсон ваш чудак. Надо бы его к нам в сельхозинститут или даже военное училище, там из него быстро дурь выбьют. Эх, помнится, в армии… Про армию не пиши – цензура не пропустит. Младший твой, мальчик хороший, почти как я в молодости, но чистая егоза. Надо бы его к делу пристроить. Ну, вроде все?
– Вроде да, – подумав, кивнула мать, – вроде все.
– Пиши дальше: куроводство – точная наука, поэтому яиц выслать не можем, сами без яиц страдаем. Плохо, что у вас деда Мороза нет, не по-людски как-то, будто папуасы какие в тростниковых юбках.
– Вить, надо для цензуры что-нибудь хорошее написать.
– Точно, пиши, младшОй: зато с колбасой полегче стало – кушаем в полное свое удовольствие. Хрен и горчица, опять же, не переводятся, да сметанка своя. Вот только одна просьба небольшая… – замолчал, обдумывая. – Пиши: у старшего-то нашего обувка развалилась, а скоро осень, дожди там, слякоть, снег, метель, сугробы. Ты же миллионер, помоги нашему горю. Переведи денег сыну на сапоги.
– Про младшего не забудь, – всполошилась мать, – просить, так на двоих. Чего два раза перед буржуем унижаться, да зря конверты с марками переводить?
– Логично, – покивал отец. – Пиши: и младшему нашему надо обновку к школе справить, брюки да картуз. А то заболеет туберкулезом и умрет. Буржуи, – объяснил матери, – они к детям жалостливые, к беспризорникам там, педикулезным, тифозникам.
– Бабушка рассказывала, что некоторые немцы детям хлеб и молоко украдкой давали в оккупации, – вспомнила мать.
– Вот видишь, – отец воздел палец, – немецко-фашистские оккупанты и то о детях худо-бедно заботились. А уж Си-Си, глянь какую морду наел, не может немного ни отщипнуть. Немного денежек на пропитание.
– Все-таки миллионер, они жадные.
– Это для нас с тобой миллионер, а у них, в загнивающей Америке, миллионеров как грязи, больше, чем у нас милиционеров. Может хоть какие-нибудь обноски пришлет. Шеппе вон из Германии и то харчи шлют, а тут целый миллионер. Да ему такие деньги как раз пива не попить.
– Думаешь, он пиво пьет? – усомнилась мать. – Все-таки мужчина солидный, представительный, почти как ты.
– Конечно пьет – там же жарко, океан рядом, ветер соленый, вот пить постоянно и хочется. Ему что, нырнул к бочке, попил холодненького и дальше побежал.
– Вроде не показывали, чтобы пиво пил.
– Ты же не все серии видела.
– Не все.
– Да и не могут же они все показывать? – он пожал плечами. – Как в туалет ходит тоже не показывают, а ведь ходит.
– Ладно, убедил.
– Продолжаем: ты, чтобы уж два раза перевод не делать, пришли сразу заедино на двоих. Заранее благодарен, как коммунист будущему коммунисту.
– Буржуи народ жадный, – задумчиво сказала мать, – за скрепку удавятся, но Си-Си мужик ушлый.
– Я любого капиталиста за пояс заткну, – хвастливо сказал отец, – потому, что «Капитал» читал. И подпись: Виктор Владимирович Костромин, запятая и ниже: директор, член партии.
– Думаешь, пришлет? – дрожащим голосом спросила мать.
– Как же не прислать? Дело-то, почитай, международное, политика. Ежели не пришлет, так на весь мир жмотом прослывет. Сами вон булки с сосисками в ресторанах лопают, а тут детишкам на обувку да одежонку. Понимать надо.
– Ну, дай то Бог, – мать перекрестилась.
Отец тщательно заклеил конверт, степенно надписал адрес: США, Санта-Барбара, Си-Си Кэпвеллу. Подумав, дописал: лично в руки.
– Ну все, Валь, как на работу завтра пойдешь, на почту занеси.
– Небось марок много покупать, – вздохнула рачительная и бережливая мать.
– Марок оно конечно, – родитель почесал затылок, – много, все же Америка, а не Алма-Ата. Но с марками можно и сэкономить.
– Как?
– А вот так. Учитесь, пока я жив. Дети мои, отклейте со старых конвертов марки и приклейте сюда.
– Там же штемпель, – сказал я.
– Закрасите, – отмахнулся отец, – зря я что ли коробку цветных карандашей принес? Только аккуратнее отклеивайте, не порвите.
– Вы над паром из чайника подержите, – подсказала мать.
До поздней ночи мы отклеивали марки, подчищали лезвием и закрашивали карандашами следы штемпеля.
– Говорил же, надо было марки на почте забрать5, – сказал Пашка.
– Надо было, – признал я.
Утром мать отнесла конверт, почти весь обклеенный марками, на почту и под косым взглядом почтальонши положила на конторку.
– Здравствуйте, Валентина Егоровна. Что у вас?
– Здравствуй, Анечка. Письмо. Хватит марок?
Предпенсионного возраста Анечка с подозрением осмотрела конверт, по крысиному обнюхала и с сомнением посмотрела на мать:
– Вроде должно хватить. Тоже Си-Си пишете?
– Это Виктор Владимирович, покраснела мать, – по работе.
– Ну-ну… – Анечка задумалась.
– А что, много пишут? – осторожно спросила мать.
– Много, вы не поверите: Печенкин вон Иден написал, Рябич старый – Августе. Пишут, – почтальонка тряхнула пегими волосами и смахнула письмо. – Отправлю, не волнуйтесь.
– А я и не волнуюсь, – мать гордо покинула почту.
Если бы наша история была выдуманной, то она бы на этом и закончилась, но жизнь порой гораздо интереснее любой выдумки и выкидывает невероятные зигзаги. Пашке и Шурику втемяшилось в головы, что в сумке почтальонши деньги. Неделю они выслеживали Анечку, пока не подвернулся удобный случай. Анечка зашла к Максиманихе, пропустить рюмашку и послушать свежие сплетни. А сумку беспечно оставила на крыльце. Малолетние разбойники прокрались во двор, схватили сумку и были таковы. У нас в саду распотрошили сумку. Кроме скучных газет в отдельном кармашке нашли пачку вскрытых писем в Санта-Барбару. Анечка их никуда не отправила, а читала сама. Пашка отдал письма отцу и тот в гневе собрал партсобрание. Хотели довести дело до суда, но так как больше желающих почтарить не было, ограничились строгим выговором. После собрания письма в Санта-Барбару возили уже на почту в райцентр. Хотя, поток писем уже значительно поувял, а потом и вовсе сошел на нет.
Ловкачи
Папаша наш был большой выдумщик, при этом характером был скаредный и вороватый.
– Валь, – заявил воскресным утром, щедро приложившись к бутылке с молдавским коньяком, – я гений!
– Опять? – вздохнула мать. – Не вздумай больше никаких яблок покупать! Гений он!
– Яблоки – пройденный этап, – отмахнулся отец, – надо глобальнее мыслить, с людями надо помягше, а на вопросы, как говорится, смотреть ширше и углубже.
– Понесло, – мать с осуждением покачала головой. – Не умеешь ты пить, Витя.
– Все я умею! – хлопнул по столу кулаком. – Я пью, да дело разумею, не то, что некоторые.
– Это кто, например? – глаза матери по-змеиному сузились, а рука привычно потянулась к сковородке, которую Пашка вымакивал хлебом от жира, оставшегося от съеденной отцом яичницы на сале.
– Я в общем сказал, – начал юлить отец.
– Тут не партсобрание, ты говори конкретно, кого имеешь в виду?
– Да полно таких несознательных элементов, – папаша покосился на нас, – всякие алкоголики, тунеядцы, «социально близкие» и прочая шелупонь.
– Это да, – согласилась мать.
– А мы, прогрессивное человечество, совсем по-другому. Вот, например, взять куроводство. Некоторые думают, что в нем ничего сложного, а между тем, я, как куровод, могу в любой момент главой Птицепрома стать!
– Хватит демагогию разводить! – прервала мать. – Говори конкретно, что задумал.
– Скучный ты человек, Валентина, – вздохнул отец.
– Ты зато веселый, как жало смочишь. Когда же ты уже нахлебаешься?
– Мои друзья хоть не в болонии, – запел отец, – зато не тащат из семьи. А гадость пьют из экономии, хоть по утрам, да на свои.
– Трепло ты.
– Ничего я не трепло! Слушайте и учитесь, пока я жив.
Мы замерли в ожидании плана очередной папашиной авантюры.
– Мы устроим сбор пожертвований.
– На церковь? – не поняла мать.
– Ты что, совсем того?
– Теперь же можно.
– Сегодня можно, а завтра там, – он показал пальцем на потолок, – очухаются и будет опять нельзя! А тебя уже на заметочку там, – ткнул пальцем себе за спину, – взяли. Не отмоешься потом.
– Это да, – закивала мать, – это могеть быть. Так на что собирать?
– На негров, – выпалил отец и, выпятив грудь, будто петух Петроний, с довольным видом посмотрел на нас – вот, мол, я какой.
– На каких негров? – вытаращила глаза мать. – Где ты нашел негров?
– В Америке. Там их, между прочим, угнетают! Хоть даже «Хижину дяди Тома» почитай.
– Я не знаю, кто там у Тома дядя, но ты чушь какую-то городишь, ахинею несешь.
– Ничего не чушь. Я в райкоме плакаты с угнетаемыми неграми того, – понизил голос.
– Чего «того»?
– Позаимствовал, короче. Душевные такие картинки, трогательные.
– Где они?
– В мастерской стоят.
– Пошли.
Плакаты были внушительные: негры в кандалах; надсмотрщики с бичами; мордатые полицейские в шлемах, избивающие дубинками мирного чернокожего алкаша.
– Ну как тебе? – отец приплясывал от нетерпения.
– Ну… – мать задумчиво изучала наглядную агитацию, – серьезная штука, с душой нарисовано.
– Вот видишь! – обрадовался папаша. – Даже тебя, человека темного, и то трогает за душу, а уж деревенские простаки за раз-два будут готовы. Пиф-паф и наповал.
– Ой-ей-ей, – подсказал Пашка.
– Будет тебе полный ой-ей-ей, – согласился отец. – Дай только срок. Еще и книжка у меня есть «Бесправное положение негров в США». Ну что, Валь?
– Дальше рассказывай.
– Дальше рассказывать собственно нечего: ночью развешиваем в правлении плакаты и ставим ящик для пожертвований жертвам апартеида.
– Сопрут ящик-то, народец шустрый.
– Замечание принимается, – закивал отец, – ящик поставим у вас в бухгалтерии. Будешь за ним присматривать.
– А дальше?
– Дальше на отчетном собрании достаем деньги, пересчитываем, объявляем всем благодарность и я везу их в райцентр – сделать перевод на почте.
– А ну как не поверят?
– Не волнуйся, все продумано. У меня корешок перевода уже готов, осталось только сумму вписать. Привезу его для отчета.
– Ловко, комар носа не подточит.
– А я тебе что сказал? План просто гениальный, – отец засиял улыбкой, как начищенный чайник.
Улыбка была щербатой из-за зуба, который выбила в Пеклихлебах повариха, подловившая его на кражах из столовой (скатерть и запасы черного перца у нас были оттуда). Впрочем, отец всем рассказывал, что лишился зуба, когда помогал КГБ задерживать банду особо опасных контрабандистов.
– Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поживем – увидим, к чему твоя идея приведет.
Ящик для пожертвований сделали из посылочного, в котором хранили сало – пропилили в верхней крышке прорезь и приколотили крышку гвоздями. Отец еще и обклеил ящик бумажными полосками, на которые щедро наставил оттисков совхозной печати.
– Хорошо бы его цепью приковать, – отец задумчиво почесал лоб, – но куда ее приколотить?
– К стене.
– Ты что, дурачок, стену в бухгалтерии портить? Да и потом, – наставительно отвесил мне оплеуху, – дырка в стене есть улика. Что ящик был, попробуй-ка докажи: может приснилось, а может и галлюцинация. Сон или галлюцинация для суда не улики. А дырка есть объективная реальность, которую любой судья просто обязан будет принять во внимание. Понял?
– Так точно.
– А что, – спросил Пашка, – суд будет?
– Будет, не будет, – раздраженно ответил отец, – какая разница? Надеяться надо, что не будет, но готовиться, что будет. Въехали?
– Да, – закивали мы.
– Молодцы. Ночью никуда не уходите: как стемнеет, поедем плакаты вешать.
– Нас побьют, если поймают? – испугался Пашка.
– Насчет побить не знаю, но куры вас когда-нибудь точно засерут, – он отвесил Пашке щелбан, – если поймают, – довольно захихикал и ушел в дом.
– Спрячемся? – без особой надежды спросил Пашка.
– Куда мы от него спрячемся? – вздохнул я. – Лучше помочь. Если с батей поймают, то бить точно не будут.
– Не будут?
– Он же директор, кто его бить будет?
– Это да, – Пашка слегка успокоился. – Он же вроде на работу пришел.
– Ночью?
– А хоть и ночью. Работа же сложная.
– Это да, это точно.
Полночи мы с отцом вешали на стены правления плакаты. Все было нормально до того, как отец попал себе по пальцам молотком. После он, сидя на принесенном из кабинета стуле, только матерно руководил, а вешали мы. Из-за этого плакаты приколотили низко.
Утром в понедельник пришедшие на работу с удивлением рассматривали плакаты. Прослышав о небывалом событии, понабежали трактористы, доярки и механизаторы.
– Это что же? – возмущался успевший похмелиться заслуженный механизатор Коля Печенкин. – Это как же? У нас социализм, а у них вот как! – ткал почерневшим от машинного масла пальцем в чернокожего алкоголика. – Человеку в пятницу после работы и выпить нельзя?! Это как, товарищи?! – смотрел на односельчан.
– Вон как лупят, – поддержал Серега Корявый, для которого плакаты как раз по росту подходили, – фашисты просто.
– Что за шум? – из кабинета выглянул отец.
– Ты гляди, Владимирыч, что делается! – закричал Печенкин. – Нет жизни рабочему человеку в Америке.
– Да, товарищи, – отец окинул собравшихся цепким взором, – международная обстановка накаляется. Гидра апартеида поднимает кровавые головы, оскаливает щербатые пасти, эксплуатация человека человеком нарастает день ото дня! Наши черные товарищи не жалея крови и самой жизни бьются на баррикадах и помочь им есть наш священный долг! Ура!
– Ура! – грянул нестройный хор.
– А как им помочь? – насмешливо спросил матерый вор-рецидивист Леня Бруй.
– Да, как? – поддержал Корявый, недолюбливающий отца с тех пор, как тот наставил ему рога.
– Как помочь? – отец напустил на себя задумчивый вид. – Денег им надо собрать: на оружие и боеприпасы.
– Денег? – ахнула какая-то из доярок.
– Конечно денег. Кто этого не понимает, есть жертва промышленной революции и призрак мочегонной мечты (отец любил завернуть такое, чего никто не понимал). Нет, если желаете, то можете поехать сами и бороться вместе с ними. Я не возражаю. Подпишу отпуск за свой счет.
Люди зашуршали, зашептались, стали смущенно переглядываться.
– Много денег? – спросил Корявый.
– Что ты как еврей? – зашикали на него. – Там людей убивают.
– Кому сколько совесть позволит, – с достоинством ответил отец. – Лично я, – его гордой позе и благородной лысине позавидовал бы любой древнеримский патриций, – обязуюсь отдать свою зарплату за два рабочих дня.
– Я тоже! – Печенкин сорвал картуз, в который была воткнута искусственная гвоздика, украденная на кладбище, и с размаху хлопнул его об пол. – Я тоже за два дня, пишите!!! Разницу можете отнести на мой счет!
– Не погибнула еще наша Россия, – процитировал Гоголя отец и гулко похлопал в ладоши.
– И я, и я, – донеслось из толпы, – мы тоже дадим.
– Глас народа – закон для нас, – поклонился отец. – Ящик для сбора пожертвований установим в бухгалтерии, а пока все по местам, товарищи. Работа не ждет, – развернулся и скрылся в кабинете.
Гудя словно растревоженный улей, люди расходились по рабочим местам.
Три дня пожертвования были главной темой деревенских разговоров. В четверг неожиданно приехал журналист из районной газеты «Знамя труда» чтобы сделать репортаж о необычной инициативе совхозников в помощь угнетенным чернокожим. Отец насторожился, но было поздно. Раскрутившийся маховик аферы было не остановить: парторг Краха доложил в райком, из райкома отрапортовали в обком. Соседние хозяйства, ободренные примером, тоже объявили сбор пожертвований.
– Витя, что ты натворил? – за ужином скрипела зубами мать. – Комар носа не подточит? Да? Да за тобой теперь весь район наблюдает! Ты еще и кучу своих денег туда засунул! За два дня зарплату!
– Не волнуйся, – без особой уверенности в голосе говорил отец, – что-нибудь придумаем.
– Что тут можно придумать? – она схватила себя за волосы.
– Не знаю…
– Может, пожар? – предложил Пашка. Он любил бегать смотреть на пожары.
– Где пожар? – не поняла мать.
– В конторе…
– Ты что, ку-ку? – повертела пальцем у виска. – Где мы с батей работать будем, если контора сгорит?
– Не знаю, – смутился Пашка, – где-нибудь.
– Ку-ку, – мать покачала головой, – что папаша пень, что сын опенок, оба деревянные.
– А если деньги послать? – не выдержал я.
– Какие деньги? – удивилась мать.
– Ну эти, на негров.
– Кому послать? – нахмурился отец.
– Неграм…
– Третий тоже деревянный, – вздохнула мать. – Просто три тополя на Плющихе. Да твой батя лучше контору спалит, чем с деньгами расстанется! Он за копейку зарежет!