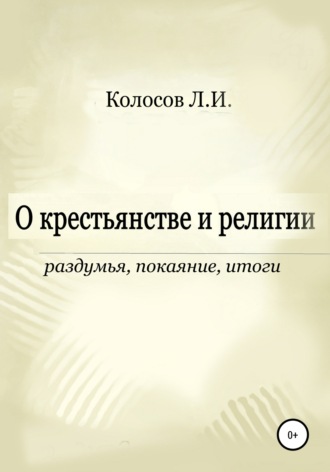 полная версия
полная версияО крестьянстве и религии. Раздумья, покаяние, итоги
Непреложные условия творчества – свобода действий, увлеченность этим трудом, заинтересованность. Без свободы человек – это раб. История убедительно доказала неэффективность рабского труда, отбросив на свалку эту форму организации жизни людей. Но она заманчива для рабовладельцев. А такой сорт людей с рабовладельческой натурой (соответствующим геномом, в основе которого лежит отвращение к работе, т. е. лень) сохранился до сих пор. Они все свои умственные и физические силы отдают на изобретение новых "современных" (хитрых, лучше сказать, бессовестных) способов порабощения других людей. Комсоветская система – одна из таких хитростей. Конечно, несвободный творец, но исключительно увлеченный может преодолеть все трудности и достигнуть определенного успеха, но все равно будет разочарован, так как будет обкраден рабовладельцем. И увлеченность его будет скоротечной. Тот же эффект и с заинтересованностью..
Весь брежневский период я проработал в науке, в том числе 12 лет в институте сельхозавиации. Все летние месяцы в году проводили опыты и жили непосредственно в хозяйствах Европейской части страны (Московская, Брянская, Псковская, Калининская, Смоленская, Калужская, Тульская, Пермская, Свердловская, Сумская, Черкасская). Поэтому, материалов для размышления о жизни трудового советского крестьянства (как тогда выражались) предостаточно.
Брежневский период – благодушный. Благодушие покоилось на высоких доходах от нефти. Эти доходы позволяли жить за счет импорта продовольствия (закупалось больше 50 млн. т кондиционного по влажности и чистого зерна, до 50 % сахара и растительного масла и т. д.), бросить на военные расходы столько же, сколько США и Западный мир, в десятки раз превосходящие по богатству. Из-за энергетического кризиса цена на нефть была баснословной. Западный мир объявил приоритетной задачей энергосбережение, что позволило ему к концу брежневского правления выйти из кризиса и резко снизить цену на нефть. Богатство нефтью и газом играет с нашей страной злую шутку: породило у нас чувство самоуспокоенности и утратило понимание необходимости развития собственной экономики, основанной на достижениях науки и техники. И так, кстати, продолжается до сих пор, болезнь кажется неизлечимой.
При огромных нефтяных и газовых доходах представилась возможность бросить часть средств (кроме обороны) и сельскому хозяйству. Большое развитие получили химизация и мелиорация земледелия, сельхозмашиностроение. Но в условиях комсоветской "плановой" системы непосредственные земледельцы (колхозы и совхозы) соответствующих прав заказчика, экономического партнера не получили. Деньги отпускали Минводхозу, Минсельхозмашу, Минхимпрому и Минудобрений непосредственно. Они были проектировщиками, исполнителями и приемщиками своей продукции. Сами устанавливали цену своей продукции. Делали то, что этим отраслям было выгодно. Они работали и жили, как все аграрии, не на земле и не от земли, а от государства (цель которого не улучшить жизнь крестьян, а переделать их в послушные винтики), получая средства от него на свое существование. Эффективность вложений не могла быть высокой и рентабельной. И соответствующая отдача сельхозпродукцией была мизерной.
Руководители и специалисты сельхозпредприятий, не говоря уже непосредственно о "трудовом советском крестьянстве", оставались бесправными винтиками в этом процессе "подъема" сельского хозяйства. Да, всегда комсоветы о конкретном человеке и не думали, тем более о крестьянине!
Нельзя не отметить и тут "хитрости" комсоветских чиновников. В соответствующих предприятиях удобрения и трактора в валовой продукции занимали подчиненную роль. В основном эти промышленные гиганты производили военную продукцию.
Не говоря о крестьянах, ни хозяйства, ни руководители сельскохозяйственной отрасли не были полноправными в определении своих перспектив. А у семи нянек ребенок не выживает (урод). Поэтому все время происходили диспропорции. Химических удобрений производили уже много, а инфраструктура их применения отсутствовала. А у земледельцев животноводческие фермы потонули в навозе – сил и средств его использовать не хватало. В результате навоз из драгоценнейшей формы удобрения стал загрязнителем.
Огромные трактора (а это народнохозяйственные варианты тягачей ракет), приходили в хозяйства без шлейфа сельхозтехники, к тому же нещадно уплотняли почву.
Бесконтрольный Минводхоз, естественно, осуществлял только огромные, выгодные лишь для него проекты. Минсельхозстрой тоже считал приоритетом грандиозные стройки, особенно для сельхозживотных, "прославляя навеки" себя и местных комсоветчиков. В результате животные пили артезианскую воду, а жители сел и особенно деревень – грунтовую неизвестного происхождения и качества воду из неглубоких самодельных колодцев. Животные, нужные комсоветскому государству, жили в хоромах, а "трудовое советское крестьянство" все еще ютилось в лачугах. Правда, власть, продолжая заниматься "бюрократическими веселыми играми", свозила эти лачуги в агрогородки или заселяла оставшихся еще жителей деревень в недостойные для людей бараки без всяких удобств.
Серьезным делом – строительством дорог, так необходимых для цивилизованной жизни крестьян, по большому счету, государство не занималось. Надо сказать, правда, дороги уже строили, но сугубо "стратегического" назначения: прямые, неподходящие и близко к деревням. И эти 5, 10, 20, 30 важнейших для жителей деревень километров, остаются до сих пор грунтовыми, большей частью непроезжими. Скажите, кто-нибудь в мире организует производство чего-нибудь без налаживания транспортировки продукции и людей?
Указанные километры имеют принципиальное значение для приобщения деревенского люда к цивилизации. Все дело в застарелой болезни правящей российской элиты – презрение к крестьянам, к деревне. Да и общество в целом ушло далеко от понимания архиважности для него существования своего крестьянства. Это очень опасно для судьбы, страны, народа, как свидетельствует история падения Римской цивилизации. Об этом писал Ю. Либих в своей знаменитой книге, в переводе которой на русский язык эти доказательства были опущены. (Были созданы латифундии на рабском труде, а свободные римские крестьяне в составе многочисленных армий «заготовляли» продовольствие у завоеванных варваров, вызывая их справедливый гнев) В результате – язык латинский – римлян остался, но народа, говорящего на нем, нет.
Там, где я бывал, видел: работать в совхозах становилось некому.
***
Начиная с 1976 г., когда душа моя вдруг встрепенулась и проснулась, я стал регулярно заглядывать на родину. Уже в первый свой приезд после 12-летнего перерыва деревню свою родную я не узнал. Она совершенно не соответствовала ее образу в моей памяти. Хоть еще оставались родные (и не только родственники) люди, но деревня стала не той, хотя природа не изменилась: речка та же, берега, кусты ивняка, места, где полоскался в детстве…
"Тихая моя родина / Речка, кусты, соловьи / Здесь моя мать похоронена /В детские годы мои…" (Н. Рубцов).
И понял: порядка не стало. Порядка, который поддерживался веками, не по принуждению власти, а самостоятельно, для обустройства своей человеческой жизни. А жизни не стало – зачем обустраивать?
Деревья (ветлы, тополя, ограждавшие "тротуар" от проезжей части улицы и создававшие зеленый свод над нею, заросшей мягкой травою) исчезли. Улицы грязные, не прибранные. Зияли провалы в местах снесенных (как наша) изб. Под этим впечатлением я написал первый, эмоциональный вариант "стихотворения" "Где дом, где родина моя".
С каждым годом деревня моя родная деградировала все больше, вернее сказать, постепенно умирала. Зияющих пустот становилось все больше. Отпала необходимость в школе. Всего 1–2 ученика начальных классов, которых возили за 8 км в с. Пачи. А скажите, есть ли целесообразность их иметь и не видеть с 7 лет? Оставались лишь те мужики, кто работал на автомашинах и тракторах. Женщин для работы в животноводстве, а также невест для молодых механизаторов не хватало.
Лавы для проезда на пойменные луга и в лес приезжали ставить строители из райцентра, часто к концу лишь лета, когда необходимость в них уже была неактуальной. Поэтому заливные луга и лесные дубравы, всегдашние наши кормильцы, к концу 70-х годов летом не использовались и превратились в "вятскую саванну".
Потом придумали к концу лета, когда Пижма мелела, через брод доставлять трактор с косилкой и прессовщиком и высокие гривы обкашивать, прессовать сено в тюки, которые и лежали на этих местах до зимы. Кормить зимой скот без них было нечем.
Но комсоветский порядок (сам не ам и тебе не дам; не высовывайся разбогатеть) поддерживался неукоснительно. Машкин Михаил Игнатьевич, у которого руки зудели при виде пропадающего добра, рассказывал мне, чертыхаясь и проклиная власть, о своей "инициативе".
Он не удержался и скосил часть пропадающего луга. Пока косил, никто ничего не говорил. Когда высушил и сгреб в копны сено, чтоб довести домой, местное комсоветское начальство пришло и запретило. Так и лежали копны на его глазах, им, пенсионером уже, старательно подготовленные к отвозу домой, пока не сгнили…
Из-за отсутствия поблизости городов с дармовой рабочей силой, местные комсоветы придумали заселять вятские земли жителями Средней Азии и Кавказа. Выдавали им подъемные и привозили в наши деревни. Летом худо-бедно они работали. Когда подъемные деньги заканчивались, а морозы и вьюги крепчали, они убирались быстренько восвояси.
Затем был найден еще один "выход". Стали привозить из г. Кирова уголовников, кому присуждены принудительные работы. Для комсоветов это привычное, обычное дело. Труд крестьян (а, по-моему, и всех трудящихся), не входящих в коммунизменную часть, а только обслуживающих живущих в коммунизме, они давно превратили в принудительный. Эти принудработники показывали "незабываемые" образцы труда. После получки они "отдыхали" от 2–3 суток до недели – в зависимости от величины получки – в невменяемом состоянии. А скот стоял на фермах некормленый, непоеный и недоеный. Оставались живыми только очень приспособленные для этой технологии.
Отбыв наказание, бывшие уголовники большей частью уезжали. Но небольшая неподъемная часть оставалась. Уже в конце 80-х начале 90-х годов была построена целая улица для таких "приезжих". Но все было напрасно, несерьезно. Остались только те, кого и город не принимал!
А еще про дойку коров этими работниками мне рассказала бывшая (настоящая, много лет жизни на это отдавшая) доярка Мария Лаврентьевна.
Один командированный проверяющий решил полакомиться по случаю "парным" молочком и пошел получать его на ферму. Зайдя туда, он увидел яркую красочную картину. Пьяная доярка, ползая по навозной жиже возле коровы, приподнимаясь и снова падая, искала в жиже упавший патрон доильного аппарата, который в это довольно длительное время отсасывал в молокопровод не молоко, а навозную жижу. Надолго отвадила, наверное, от парного колхозного молочка этого человека.
Пока все эти "приезжие работники" не превышали по численности коренных жителей, пусть даже пенсионного возраста, атмосфера в деревне оставалась еще более или менее вятской – крестьянской. Двери домов не запирались. Но в последние годы обстановка стала опасной.
Анастасия Ивановна (Шатова в девичестве) Вахрушева после смерти мужа Петра Емельяновича, оставшаяся беззащитной, как и все вдовы, обнаружила утром, что посаженный вечером лук с грядки исчез.
Грабеж и воровство уже не колхозного только добра, а даже друг у друга, стал обычным делом.
Одна за одной исчезали деревни. Ушла в небытие деревня Черное озеро, расположенная в 1–2 км от нашей. Большинство жителей 17-ти изб имели фамилию Березины. Мужики были отменные, крупные, крепкие хозяйственники. Такой была большая семья Артамона.
Постепенно опустошалась деревня Кугланур, по величине, равная нашей, но немного в стороне от столбовой дороги. Исчезли две деревни за Куглануром – Едыгары и Росляты, имевшие долю лугов за Пижмой. Приезжавшие из них крестьяне на сенокос ночевали в изодранных шатрах и шалашах. Наши парни, с гармонью ходили знакомиться с девками этих деревень. Один раз и меня, подростка, взяли с собой для учебы. В деревне Росляты в Петров день шумело большое гулянье.
Растворились в небытии соседние деревни Пижанского района – Тимино, Змеевка и Даниленки. Оттуда мы возили "чернозем" (луговую плодородную почву) для грядок под овощи на осырках. Приехав в Тужу, однажды я прошел пешком 15 км до Пачей, где тогда уже жил брат Михаил, чтоб взглянуть, вспомнить маршрут, по которому ходил в 8 и 9 классы. Пришлось идти по бездорожью, по памяти. Не было уже деревень Шанеево, Вахренино. А на месте удивительно чистенькой, ухоженной деревни Коротаи, уютно расположившейся на берегу большого оврага с родниками, вырос угрюмый хвойный (еловый) лес. В нем, как мне своевременно подсказали встречные прохожие, уже освоилось медвежье семейство. Поэтому это место обошел я стороной.
Это были уже последние брежневские годы и начальные после него. Деревни исчезали одна за другой, а в оставшихся состав жителей не омолаживался. Все неумолимо в деревне крестьянской шло к печальному концу.
Но удивительно разрослись районные и областные центры, а в них когорты аграриев.
И, если областные центры расширялись, в основном, за счет крупных промышленных предприятий, то районные центры (бывшие когда-то селами, мало отличавшимися от деревень) – большей частью за счет увеличения бюрократического аппарата (с соответствующими конторами) по управлению сельским хозяйством (колхозами и совхозами) и робко развивающейся отраслью по переработке сельхозпродукции и по обслуживанию (обеспечению) удобрениями, машинами, электричеством, газом и т. п. Мелькомбинаты и мясокомбинаты располагались только в городах на значительном расстоянии от хозяйств.
То есть, как на дрожжах рос класс аграриев, государственных служащих, работающих и живущих за счет государства (как машины по управлению страной, обществом) и отстаивающих поэтому интересы этой машины. Для них главное – отчитаться перед вышестоящей инстанцией по выполнению ее указаний (иногда смешных, например, по кукурузе и т. п. бюрократических игр) и, главное, по сбору (прямо говоря, по отбиранию большей части) созданной в хозяйствах сельхозпродукции. Таким образом, аграрии – это самые близкие к крестьянству нахлебники и поэтому наносят самый большой вред. Они должны бы по идее быть помощниками крестьянства, ближними партнерами при производстве продовольствия в стране, если бы они и крестьяне были равноправными, как в цивилизованных странах, не строивших "коммунизм" для одних и одновременно рабство для других.
Среди вятских крестьянских хозяйственников была такая притча. Ничего не сделаешь и ничего не получишь у 50 контор районного центра (в нашем случае, в Туже) – ни электроэнергии, ни газа, ни машин, ни удобрений, ни помощи в строительстве (дорог ли, водохозяйственных и других сооружений), в социалке (больница, аптека, собес, школа и т. д.) и т. п., если не привезешь что-то из трех "М" – мясо, масло, мед. Ни одна дверь этих контор без них не отопрется. Вот и весь социализм – коммунизм и т. п.
(Этот класс аграриев, как увидим потом, загубил на корню все начавшиеся реформы в стране по сельскому хозяйству).
Я в эти годы был "отъявленным аграрием", работая в МСХ СССР гл. специалистом (не будучи членом партии на большее, к счастью, не подходил). Я этот класс знаю изнутри, поэтому они, конечно, назовут меня предателем (их интересов). Я иду на это "предательство" сознательно, не имея каких-либо шкурных интересов, кроме одного: надо осознать отрицательное в жизни и устранить его. Иначе никакого развития в стране не будет.
Я очень хорошо понимаю, что одни крестьяне без аграриев необходимой цивилизованности не достигнут. Но аграриев как равноправных с ними партнеров. Это аксиома.
Сельскохозяйственные ученые, кем я был более 15 лет, также относятся к аграриям. Хотя ученые не отнимают у крестьян производимую ими продукцию, но работают на государственные средства (отнятые государством у крестьян), а потому выполняют заказы лишь государства, его чиновников, зачастую давая "архинаучное" обоснование всем вышеупомянутым "игрищам" комсоветских бюрократов.
А в целом они предоставлены сами себе, не востребованы по большому счету хозяйствами, находящимися в бедственном бесправном положении. Эта невостребованность практически превращает сельхознауку в бессмысленность, в искусство для себя. Хорошо, если ученые по призванию – они работают все равно, они не могут не работать. Но атмосфера невостребованности при неплохих заработках втягивала в такую науку много недобросовестных людей, политиков, политиканов. Большой вред науке нанесла "руководящая и направляющая партия", назначая директорами научных учреждений своих политиков, никакого отношения к науке не имевших.
Такая практика присылания руководителей была отработана до автоматизма в производстве. В последние десятилетия комсоветов все руководители хозяйств были назначены сверху, чтоб неуклонно проводить политику партии по построению всего того же коммунизма, разработанного где-то сверху, "не нами", да и не генсеками, тем более еле дышащими. Материально назначенцы в малой степени зависели от эффективности хозяйственной деятельности. Премии, награды, величина зарплаты назначались им сверху. Как отчитаешься. Поэтому приписки, очковтирательство и достигли небывалых размеров. Урожаи по отчетам несусветные, а хлеб приходилось все больше закупать за рубежом.
Надо заметить, что эта "дисциплинированность по вертикали власти" приобрела в областях РСФСР особенно уродливые формы. Например, при проведении дорогостоящей осушительной мелиорации. Зачем улучшать землю, если продукцию невозможно вывезти без дорог!
Будучи с комиссией в Латвии, я увидел в одном из хозяйств на полях кучи удаленных кустарников (что делать очень просто и дешево). Но на этих полях вода стояла в осенние дни. А в хозяйствах ко всем полям асфальтированные подъезды. Проверяли мы совсем другие вопросы. Я не удержался и спросил у председателя колхоза по-дружески:
– Наверное, за счет средств на мелиорацию построили асфальтированные дороги к полям?
– Да, – сказал он откровенно.
Конечно, правильно они делали, разумно. А в России дорог не было и нет, а осушали даже заливные луга, которые не могли косить из-за отсутствия мостов, подъездов. Болота осушили, где надо и где не надо, да так, что горят они теперь беспрестанно, пока не выгорит весь торф.
В горбачевский период произошло оживление в сельскохозяйственной политике. Больше прав стали иметь руководители хозяйств, закончена была паспортизация крестьян, решались социальные вопросы деревни – электрификация, строительство дорог. Сельскую местность стали охватывать телевидением, газификацией и т. д. С большим шумом осуществлялась интенсификация сельхозпроизводства, но многие волны заканчивались в основном в бюрократическом море аграриев. Прогрессивное явление – интенсификация превратилась в очередную бюрократическую игру малого начальства для большого начальства. А основная масса советского крестьянства оставалась бесправной, не имеющей голоса, занятой принудительным трудом с низкой оплатой, "без земли и воли", как говорили еще в XIX веке, с очень низким в сравнении с городским населением уровнем социальной обеспеченности.
При этом местное комсоветское начальство улучшало иногда медицинское обслуживание жителей отдаленных от районных центров деревень при бездорожье так: медпункты (иногда с миниатюрными больницами закрывали как экономически невыгодные, прикрепляя жителей этих деревень к районным больницам. Но как туда добраться? Больницы то улучшались, и начальство, живущее в районных центрах, тем самым было довольно!
Мой родственник председатель довольно развитого колхоза при обычном в те годы кухонном разговоре сокрушался:
– Когда телевидение дошло до нас, и колхозники увидели, как живут остальные граждане страны, неостановимо побежали в город.
А перед этим, поджидая меня у подъезда министерства и увидев какое большое количество людей работают только в одном министерстве (а было тогда в Госагропроме СССР примерно 7000 человек), долго повторял:
– Нам не прокормить такую прорву!
Мероприятия, осуществляемые в конце 80-х годов по предоставлению экономической самостоятельности гражданам (кооперативы и т. д.) для крестьян не предназначались). Недоверие что ли к крестьянам? Или презрение как к низшей расе страны передавалось по наследству от одних правителей к другим?
Все полууголовные элементы страны развернули свои частные предприятия, – они граждане. А крестьянам – нельзя! Наверное, вся разгадка в том, что комсоветские феодалы – аграрии не могли остаться без крепостных. Лед советского феодализма в деревне еще даже и не подтаял к периоду перестройки и реформ.
Свободу получили руководители обслуживающих сельское хозяйство предприятий и некоторые руководители хозяйств, приближенные к партийной власти – маяки. Раньше все инициативы и принятие решений было сосредоточено в партийных органах.
Дорвавшись до воли, они не могли никак ею насытиться, и поэтому делиться ею ни с кем не хотели. Бывший раб – самый жестокий рабовладелец" – закономерность, особенно прочно прилипшая к нашей отечественной правящей элите, не познавшей рабовладельческой стадии развития общества. Перескакивание обществом ступенек – все время тянет его назад, чревато взрывами и обломами.
***
Как я уже писал, в конце 80-х годов при очередной поездке на родину, мне сказали, что в Куглануре уже тоже никто не живет. Я съездил туда… Ни одного человека, ни одного звука, заходи в любую оставшуюся избу и располагайся. Все брошено. Наверное, так было бы после взрыва нейтронной бомбы. В заброшенных огородах на яблонях зрели яблоки, в кустарниках малины и смородины красовались ягоды. Тишина, покой, как на кладбище…Когда-то здесь шумело-гремело гулянье тысячи человек. Звучали песни и гармони. Все: отплясались и отхороводились, отгорбатились бесплатно на стройке коммунизма. Вместо сказочного коммунистического рая получили зловещую коммунистическую быль в виде многих тысяч заброшенных и навсегда исчезнувших деревень…И ничего не создав взамен…Э-эх!..Но эмоции здесь неуместны и даже вредны. Надо оглянуться на себя, на нас, подвластных…, доверившихся такой власти до потери себя, разума… Вот где корень зла… Плохие люди были, есть и будут. Наша задача, которую нельзя никогда ни на кого переложить, – не давать им воли!!!
Когда не стало и 2-го тирана, мы не смогли, как в Китае, враз уйти от тирании, от зашоренности вернуться на столбовой путь существования человечества. Тираны хорошо подчистили нас от мыслящих, милосердных и совестливых, сотворив из нас "советский народ". Слишком долго они творили, слишком сильно мы, отъятые ими от религии, доверились этим земным кумирам, думающим на самом деле лишь о власти над нами. И за этот грех Бог, наверное, и лишил нас разума. Оттепель 1954–1960 гг. быстро перешла в длительную зиму, правда без сильных морозов, как при тиранах. Мы не успели даже проснуться и с умилением младенцев наблюдали за деятельностью комсоветской власти, созданной почившими тиранами. И ждали, ждали, когда же наступит всеобщее счастье – коммунизм, о котором так красиво власть рассказывает. Власть-то эта, надо сказать, уже счастливо устроилась, по-коммунистически. Ей-то торопиться уже было не надо. Все, чего хотела, она получила. Наверное, поэтому все программы повышения благосостояния советского народа она никак не могла претворить в жизнь.
Как пели и поют до сих пор большевики "вышли мы все из народа" (вышли, значит, не стали уже народом, а кем стали, куда пришли?). Клялись и клянутся в любви к народу, чтоб использовать его бессовестно для утоления жажды власти – основной своей цели.
Сейчас мы все, оглушенные этим пением должны понять смертельную опасность такой любви к людям, в основе которой лишь любовь к себе самому и к власти над другими, указывая им, сидя на них. Она губительна для адресата (народа), носителя (власти) и для всего человечества в целом. Особо яркие примеры такой любви дали Маркс, Ленин, Сталин, Гитлер и их последователи. Наглядные результаты ее – сотни миллионов погубленных так называемых "простых людей", к кому была якобы обращена эта любовь, десятки миллионов противников этой любви и ее носителей, миллиарды заболевших, отравленных коммунистической заразой душ.
(Мы ничего не знали – обычно говорят «простые люди» о ленинско-сталинских репрессиях. Неправда. Знали. Не хотели знать те, кого не коснулась коса большевиков. Так легче, спокойнее. Но ведь это очень близоруко – зло наглеет, и вы тоже будете репрессированы).
Рецептов излечения носителей "такой любви" нет, – она заложена в их геноме. Уничтожать их бессмысленно. Это не в нашей, а Бога-Творца, воле. Успокаивать их от рецидивов могла бы религия, но они – атеисты, а точнее, создания сатаны.
Но уберечься от носителей "такой любви" – наша повседневная жизненно необходимая задача. Религиозным людям, читая "Отче наш" нужно особое внимание уделять пророческим словам "да избави нас от лукавого". А вообще нельзя никому быть неразборчивым в потреблении любви, так как лик любви обычно, к сожалению, использует для обмана лукавый, диавол. А в политике непреложное правило: к руководству людьми ни в коем случае нельзя пропускать любящих только себя, других считая лишь материалом для захвата власти над миром.

