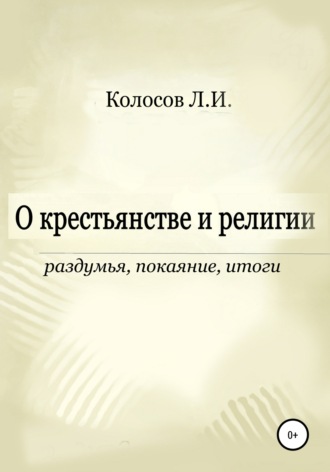 полная версия
полная версияО крестьянстве и религии. Раздумья, покаяние, итоги
С 1960 г. я работал сначала 5 лет непосредственно в хозяйствах (управляющим отделения, главным агрономом совхоза, даже полгода исполнял обязанности директора), в научных с/х учреждениях (1965–1981 гг.), в аппарате МСХ и Госагропрома СССР, ГКНТ и Россельхозакадемии (1981–1995 гг.). Да "до того" 16,5 лет деревенского колхозного всеобуча. Поэтому выводы мои основаны на большом, "разнообразном" опыте. Изъездил, облетал, исходил многие области России, Украины, Казахстана, Белоруссии, Латвии. Хоть и беспартийный, но вместе со всем советским народом выполнял (прости меня, Господи) предначертания партии, в первую очередь ее рукамиводителей, "гениальных или близких к этому", т.т. Сталина, Хрущева, Брежнева, Андропова, Черненко, Горбачева. Я не включаю в этот ряд Ельцина, тоже большого комсоветского руководителя, но у него были с 1991 г. другие намерения – антикоммунистические. (Правда, и в этот период аграрную политику на местах, да и в центре осуществляли тихим сапом те же комсоветские аграрники, думая лишь о себе, а не о восстановлении свободного земледельца – крестьянина-хозяина на земле).
Я не буду анализировать проблему сельскохозяйственного производства. Оно – производное от крестьянства, Моя тема – само крестьянство. Это раз. Во-вторых, если и буду касаться результатов в сельском хозяйстве, то ни в коем случае не буду оперировать цифрами госстатистики. Я очень хорошо знаю об их недостоверности, их "нарисованности на заданную цель". Ее достоверность на уровне не более 50 %.
Главная причина недостоверности – подчиненность органов статистики лишь одной ветви власти – исполнительной, заинтересованной в приукрашивании своей деятельности (а в комсоветское время – одной партии). А отсюда – выбор сроков, способов и приемов учета, отчетных форм и показателей.
В сельском хозяйстве были взяты за основу сами по себе интересные, но не ключевые в оценке его эффективности показатели: урожайность и валовой сбор, надой на 1 фуражную корову и валовое производство молока и мяса. Оценивать же нужно с/х предприятие по его товарности и затратности, как оно выполняет основную задачу по обеспечению продовольствием, а в целом по стране – самообеспеченность ее сельхозпродукцией.
Срок отчетности по производству растениеводческой продукции – чисто партийный – осенью (на 1 октября – 1 ноября), чтоб успеть к выборной отчетной партийной кампании. В это время эта продукция в бункерном весе (влажная, с сорняками, неотсортированная и невысушенная и т. д.). Возможности для рисования – огромные, ограничены только уровнем честности и заинтересованности руководства.
Приписка валового сбора, урожайности не влияла на окончательные итоги деятельности хозяйства. Усушку и утруску свыше установленных размеров списывали на корм скоту и т. п. В приписке были заинтересованы руководители хозяйства, района, области, страны – ордена и медали раздавались по этим показателям уже в ходе партийной отчетной компании.
Экономические, финансовые результаты в годовых отчетах хозяйств, которые были готовы только к марту, никто не изучал и не анализировал. Практически все хозяйства были убыточными из-за низких сдаточных, потом якобы закупочных цен на сельхозпродукцию. Хорошо, что после 1 января убытки прощались, а мы начинали снова расходовать. В экономии затрат мы поэтому были не заинтересованы. Правда, много нам и не давали. Государство при Сталине забирало продукцию (а хозяйство "сдавало"), после Сталина – на словах закупало, но по ценам им же установленным. Изменили только слова. А потом давали подачки с барского стола. Игра и игра уже с колхозным ("социалистическим") крестьянством, а не со свободными самостоятельными производителями продукции!
Приписки иногда совершали организованно. Так, в одну из осеней нас – главных агрономов вызвали в управление сельского хозяйства и заставили продать заложенный на семена картофель заготовителям. Оказалось, район и Московская область не выполнили план сдачи государству картофеля. Могли полететь головы рукамиводителей. Я, молодой еще был, испугался:
– Чем будем сажать картофель следующей весной?
– Не волнуйся, как был картофель у тебя, там и останется на хранение, а весной выкупишь у заготовителей!
Что сделаешь? Подписал эту чиновничью, политиканскую игру. Да, и нам в хозяйстве была выгода. Больше дохода – больше прибыли и премий, которые в нашем, редком тогда, прибыльном совхозе давали.
К тому же, я уже был "ученый". За год до этого случая я исполнял обязанности директора другого совхоза. Год (1962) был очень тяжелый, дождливый в Подмосковье, а по стране неурожай (из-за черных бурь). Рукамиводители Московской области выскочили с инициативой сдать 3 плана сдачи зерна государству (хотя область, много ввозящая зерно из-за больших потребностей животноводства). А я в сутолоке и по молодости не придал этому особого внимания. Выполнив план сдачи на 154 %, начал засыпку озимой пшеницы, чтоб в следующем году засеять старыми, как учили, семенами, а не свежеубранными, и не прошедшими покоя, как обычно мы вынуждены были делать. Да, вызывают на открытый расширенный пленум Подольского райкома партии. Уже в докладе наше хозяйство "критикнули". Меня первым "подняли в прениях" после доклада. Я начал рассказывать о делах в хозяйстве, уборке, севе, заготовке и внесении органических удобрений и т. д. Меня вопросами в лоб остановил 1-й секретарь:
– Почему ты срываешь выполнение инициативы партийной организации области?
– Заготавливаю семена и т. д., – начал было я.
– Да ты, оказывается, не понимаешь интересов партии и государства! Садись! – обрезал он меня и еще что-то грозное продолжал говорить, а я шел к своему месту, под взглядами большого количества присутствующих (район был громадный, много промышленных предприятий) с ощущением себя "врагом народа". После окончания пленума подошел к президиуму спросить, когда и кому сдавать дела. Меня заметил предрик (в памяти только фамилия Иванов), пожилой, как-то по-отечески ко мне всегда относившийся, и спросил меня:
– Есть зерно-то?
– Есть, – говорю, – куда отвозить?
– Никуда не надо. Молодец, что сохранил. Инициативу район уже выполнил без тебя.
– А за что же меня всенародно били?
– Для учебы!
Вот такая отвратительная была учеба, отвращающая специалистов от работы в сельском хозяйстве.
В результате приписок трудно разобраться, в каком состоянии находится сельское хозяйство. Потом, когда работал в МСХ СССР, мы долго составляли хлебный баланс, тоже вынуждены были мучительно думать, куда девалось зерно при громадном по статистике его сборе, почему не хватает его ни людям, ни сельскохозяйственным животным. Списывание приписок на корм скоту внутри хозяйства породило в научном мире проблему – "догадку": это из-за несбалансированности по белку такой большой расход корма на единицу животноводческой продукции, нам надо решать проблему белка.
Плановая экономика при жесткой вертикали управления требовала охвата большого количества показателей, объективность получения которых была не обеспечена технически. Эти показатели предписывали рукамиводители, которые никогда в хозяйствах не работали. Помню, с каким упоением анализировали специалисты МСХ СССР громадные тома данных статистики о применении удобрений; когда, куда, сколько и т. д. и т. п. Чтоб они не очень "потели", я их успокоил, что ведь удобрения в хозяйстве никто не взвешивает. Зимой уже специалисты их оптом списывают, рисуя ответы на вопросы статистиков. Некогда, некому, очень затратно и технически не обеспечено получать эти цифры летом.
В хрущевские, да и во все последующие времена шли постоянные "пертурбации". Были испробованы все возможные способы развития сельского хозяйства при сохранении комсоветской политической системы, которая упорно не ставила уже советского крестьянина в центр внимания, до конца семидесятых годов оставляя его беспаспортным (и тем самым, невыездным, закрепощенным, а по большому счету, негражданином страны), без социальной защиты (пенсий, бюллетеней, отпуска), а потом с унизительной пенсией в трудоднях, затем 10–15 рублей при средней пенсии в городах до 120 рублей. Кстати, низкой долго была зарплата и в совхозах (от 1,3 до 1,9 руб. за дневную норму).
Партия упорно осуществляла завет "классика большевизма" по превращению крестьянина в сельскохозяйственного рабочего, по раскрестьяниванию, по уничтожению крестьянского уклада, разрушению "стволовых клеток общественного организма страны", ежеминутно рождающих ненавистный капитализм.
Я работал специалистом в совхозах, когда партия стала строить в стране уже коммунизм (к 1980 г. нужно было создать экономическую базу этого мифа). Поэтому, особенно вначале, принимались красивые постановления по повышению жизненного уровня работников сельского хозяйства (так стали величать крестьян), но они почему-то обязательно сопровождались контрмерами по сдерживанию улучшения их жизни. Так, в убыточных совхозах перестали задерживать выплату зарплаты, но при израсходовании фонда зарплаты, исчисленного по минимальным нормативам, мы в последние месяцы года были вынуждены отправлять работников в неоплачиваемые отпуска, хотя необходимость работ оставалась.
При составлении производственно-финансовых планов специалисты представляли в сельхозуправления технологические карты по выращиванию запланированных урожаев сельхозкультур. Помню, принимающий управленец заставлял меня снижать мои детально просчитанные цифры по расходам на гектар до управленческих нормативов. На мои возражения и на мою просьбу вычеркнуть и соответствующую долю работ, меня грубо одернули:
– Не умничай! А то другой будет на твоем месте!
Раз коммунизм, то все общественное, "народное" (на деле – в руках чиновников государства) не должно быть, никаких частных подворий! Было дано сверху задание обобществить весь скот, чтобы работники совхоза не теряли время на работы с личным скотом. А совхоз должен был выдавать молоко и мясо по себестоимости или даже ниже. Красиво? – Да! Но факир был пьян, и фокус не удался! Уровень совхозного производства из-за низкой заинтересованности при отсутствии чувства хозяина вырос незначительно, а планы сдачи (закупок) продукции государству повысили сильно. Нам пришлось сначала сократить, а потом прекратить отоваривание рабочих совхоза. Они в очередной раз были обмануты "рабоче-крестьянской" властью, оставшись без своего скота, без молока и мяса.
Помню уже в конце 70-х годов, старший брат Михаил, 27 лет отработавший председателем колхоза, но из-за фронтовых ран немного недоработавший до 60 лет, на пенсии, сказал с претензией мне, москвичу:
Вы в городе покупаете мясо по 2 руб./кг, а я вынужден в сельпо по 4–5 руб./кг или незаконно "по дружбе отовариваться" в хозяйстве, то есть, говоря прямо, – воровать.
Но ведь тогда мясо в магазине купить можно было лишь в Москве. Поэтому в других городах всем приходилось так или иначе приворовывать. Иначе ноги протянешь. Всем, и начальникам в своих закрытых кормушках.
К стыду своему вспоминаю, как по заданиям сверху мы, руководители совхоза вынуждены (и по ночам даже) проверять, не косят ли в наших лесах и оврагах (где мы сами никогда не косили – технику не применишь, а людей для ручной косьбы нет) не работающие в совхозе жители, имеющие скот. Богопротивное это дело – "сам не ам и другим не дам".
Вспоминаю, с какой помпой подавалось очередное "облагодетельствование" работников совхоза – общественные огороды для снабжения их картофелем и овощами по низким ценам. Председатель рабочкома потребовала срочно подготовить план его создания. Я составил технологическую карту, наметил поле с плодородной почвой и спросил, на сколько человек рассчитывать этот огород. А он создавался по указанию сверху с одной лишь целью, чтоб рабочие не отвлекались от общественных работ и все силы отдавали хозяйству. И что же? Никто не записался. Я потом узнал у рабочих причину. Ответ был замечательным:
Мы вам не верим. План сдачи государству не выполните и нашу огородную продукцию сдадите, а мы останемся с носом!
Очень правильные слова. Так и было бы, конечно.
В эти годы рьяного строительства коммунизма ужесточена была антирелигиозная пропаганда. Действующие церкви закрывали. Недействующие, использованные на самые оскорбительные для храмов дела, сносили с лица земли, чтоб не мозолили глаза идеологическим работникам партии, чтоб не тревожили душу людям, нарушающим основную заповедь – не воруй.
Да и неистовой пропаганде коммунизма мешало знание многими еще и других заповедей: о невозможности построения рая на земле, о ненужности сотворения кумиров на земле и т. д. При небольшом раздумии нетрудно понять нереальность "коммунизма" – счастья для всех одновременно: воров и обворованных, убийц и убиенных, трудяг и лентяев и т. п. От рождения люди имеют противоположные наклонности. Один печалиться, что не украл, другой – доволен, что не обокрали. Один радуется только тогда, когда другие плачут и т. д.
Кроме пустопорожних мер (укрупнение хозяйств до безумного размера, погоня за чудо-культурами и т. д. и т. п.), предпринимались и здравые, имеющие хоть какой-то смысл и пользу. Так, несколько лет хозяйствами непосредственно руководили не райкомы партии, а управления сельского хозяйства (с очень длинным названием), которые в значительной мере были сформированы из специалистов сельского хозяйства. Начались опыты по безнарядной системе организации работ. Создавали в хозяйствах звенья, оплата работников которых напрямую зависела бы от величины получаемой продукции. Стала поступать в хозяйства техника, удобрения. Началось водохозяйственное обустройство. Создавались специализированные хозяйства и т. д.
Но комсоветская система, придуманная, фантастическая, нереальная, не способствовала повышению производительности труда из-за отсутствия материальной заинтересованности и самостоятельности людей. Да еще она будоражила остальные страны (дурной пример заразителен), боролась за победу во всем мире. Поэтому страна отвлекала на военные расходы немыслимую для нормального общества долю общественного продукта, самых умных и здоровых людей. В таких политических условиях принимаемые меры по развитию сельского хозяйства, но на одном энтузиазме, без материального обеспечения были обречены на неудачу, и были скомпрометированы.
Созданные безнарядные звенья быстро распадались, так как при высоких производственных результатах их работников обманывали и не доплачивали, нарушая договоры. Да и не могли заплатить, так как заниженный фонд зарплаты из-за низких госцен на продукцию не позволял этого сделать: оставили бы всех остальных работников хозяйства без "довольствия". Отдать выращенную звеньями продукцию им самим нельзя, иначе будет стихийный рынок, капитализм!
Обо всем этом я рассказываю на основе своего опыта работы в совхозах Московской области. Здесь хозяйства держались благодаря постоянному притоку крестьян из близлежащих, да и дальних областей и республик. Нам давали лимиты на прописку, сначала (3 года) временную, переходящую потом в постоянную.
Получившие прописку и какое-никакое жилье тут же устраивались в близлежащих городах на заводы, фабрики, да везде, где платили и где были более или менее сносные условия жизни даже в условиях комсоветской системы. И этот поток не ослабевал, а все более с годами ширился….
***
На родину я наведался в 1964 г. (через 6 лет после смерти отца) на 50-летие старшего брата – поводыря- Михаила, руководившего тогда огромным колхозом (треть бывшего Тужинского района) укрупненного в свою очередь Яранского района (бывшего уезда). Комсоветская власть на местах, не решая узловые вопросы развития сельского хозяйства и абсолютно не вникая в кричащие нужды деревень и их жителей, занималась по вертикальному сигналу абсолютно несерьезными, до идиотизма, играми. Создавала несуразные, малоуправляемые при отсутствии дорог и связи гигантские хозяйственные конгломераты, насаждая железную дисциплину управления, ставя поставленных ею руководителей и специалистов в строгие рамки, что делать и как делать, не задумываясь о местных условиях. Главное – быстро исполнить указание сверху, так как ответственность местных малых и больших рукамиводителей сосредоточена на отчете перед вышестоящими еще большими и совсем большими рукамиводителями. Ответственность за хозяйственные результаты у них отсутствовала. А если, провал, так виноваты хозяйственники, исполнители, а в крайнем случае можно списать на исключительно неблагоприятные российские почвенно-климатические условия, а при смене генсека – на него, ранее облизанного до блеска, гениального из гениальных, верного продолжателя дела главного коммунистического идола.
Крестьяне же многочисленных тогда деревень этих нескладных конгломератов были полностью отодвинуты от принятия решений. При такой организации жизни и производства в деревне бессмысленно ждать успехов. За работу же труженики получали, как и раньше, гроши. Социальная помощь государства осуществлялась в основном в виде словесных и бумажных обещаний. Да и как воспользоваться ими, если для оформления, допустим, пенсии (10–12 руб. для колхозников) или лечь в больницу, надо было ехать за 25–45 км по бездорожью. Лошади уже были заменены автомашинами, а на них далеко не уедешь в распутицу, которая бывала большую часть года.
Были случаи, когда человека с приступом аппендицита возили трактором на санях по осенне- весенней грязи, и он умирал в этой длительной дороге.
Поэтому деревня значительно поредела, но еще была в ней жизнь – в начальной школе училось до 15–20 учеников (с 1-го по 4-й класс), а в наше время столько училось в одном классе.
Стоял еще наш дом, никому, правда, ненужный, заколоченный…
В той поездке наша соседка, потом ставшая сватьей-тещей моего брата Николая, Новикова Ефросинья Артамоновна рассказала о последних годах и днях жизни отца, тяти, как мы звали в деревне своих отцов. Я благодарен ему за то, что он дал мне жизнь, вырастил и воспитал, как и моих пять братьев.
Исключительно трудолюбивый, никогда не курил, не пил, не ругался матом. Наставлял меня любя, наверное, жалеючи последыша, но строго. И с другими людьми был тверд: старался всем помочь, но с враждебными был непримирим.
После смерти жены, нашей мамы, как я уже писал, почти пять лет он жил один. На зиму уезжал к сыновьям, а летом был дома. До последнего дня работал (пенсии, как известно, колхозники не имели) – и ни чьей помощи не просил. Старший его сын Михаил был раздражен, что он не идет к нему жить (он жил тогда тоже в нашей деревне). Тятя отвечал, что жена Михаила (а отец в свое время был против его женитьбы) со света его мигом сживет.
Заготавливая материалы для изготовления деревянных вил для колхоза, он упал с березы (в 68 лет), а потом принял "от живота" навара травы (мама умело собирала и применяла всякие травы). То ли не от той травы, то ли не так отваренной, отравился. Сам доехал на верху грузовой машины в Тужинскую больницу. Но было уже поздно.
Многократно сейчас вспоминаю один весьма поучительный случай. Урок. Однажды зимой отец взял меня, 7-8-летнего, с собой в лес на заготовку какого-то лесоматериала. Он валил и распиливал деревья. Я обрубал сучья маленьким топором и сжигал их, а также помогал ему пилить. Работали до вечера, пока не заготовили необходимый объем и уложили в штабель. Нам было тепло, даже жарко, несмотря на мороз.
К вечеру, как всегда, мороз резко усилился. У нас тогда нередко бывали морозы до 40 градусов. Когда мы поехали, а дорога неблизкая, я ста замерзать. Сначала было больно, а потом я стал засыпать…Отец тряхнул меня: «Ты, что, Лень, замерз?» – а я, видимо, что-то промычал невнятное уже. Он понял опасность. Поставил меня на дорогу и крикнул, чтоб я бежал. А лошадь погнал побыстрее. Я заревел: «Тять, ты что же бросаешь меня ночью в лесу?» И побежал за санями на замерзших уже ногах.
Подробности дальше не помню. Но я, благодаря отцу, остался жив и не отморожен.
Так вот, Ефросинья Артамоновна, умелая рассказчица, поведала, как он один тюкал топором, делая телеги и все другое, пел заунывные песни ("Уродилася я…") и слезы катились из его глаз:
– Ну-ка, такая семья была, столько сыновей вырастил, а концу жизни – один, все разлетелись…
Я долго переживал этот рассказ, видел плохие сны об отце, в страшном виде. Всех винил в его горе…, только не себя…
Приехавшей как-то в Москву Ефросинье Артамоновне рассказал о снах. Она и говорит:
– Вот нехристи, ни один, наверное, свечку отцу не поставил! Вот пойду в церковь завтра, поставлю за него свечку…
Наверное, поставила. У меня больше страшных снов не стало. Правда, я только тогда (к 30 годам) понял, что я приложил (и сильно!) руку к печальной отцовской доле в последние его годы. (Я еще учился в 9-м классе в Туже, а он ехал после зимы от сына Александра. Тот "организовал" ему старушку для жизни. Я отвернулся от них. Отец отправил ее обратно).
Горько поздно увидеть свои грехи. Очень горько. Но лучше поздно, чем никогда!
***
Вернувшись на свое рабочее место, я крепко призадумался о жизни и работе, по большому счету. И я принял окончательное решение уйти с производства в науку. Хотя дела у меня шли и неплохо. Начальники говорили, что они из меня будут делать директора. Но я разочаровался в смысле работы в комсоветском сельскохозяйственном производстве. И не из-за трудностей (без выходных, грязь, не слишком большие деньги, оторванность от культуры), – я привык к ним, на такой почве вырос, было еще хуже. Я же не колхозник рядовой, беспаспортный, привязанный. Но моя самостоятельная натура, мой свободолюбивый характер не давали мне спокойно чувствовать себя несамостоятельным винтиком, выполнять указания рукамиводителей, в массе некомпетентных, а главное, не несущих абсолютно никакой ответственности за хозяйство. Всякого рода инструкторов и организаторов, которых нельзя ослушаться, иначе тебя выгонят с работы. Но за вред хозяйству, их никто не накажет. Зарплату они получают не в хозяйстве.
Но их, а не нас провозгласила тогда власть главными фигурами сельского хозяйства. Их не заботила судьба хозяйства, великие трудности организации работы в нем. Первый вопрос – где кукуруза, есть ли квадраты, сколько зерен в гнезде? Намучившись в первые годы внедрения кукурузы с этими поверхностными, несерьезными вопросами, мы потом приловчились сделать по-ихнему на одном поле и возить этих "одуванчиков" на него с разных сторон. Благо лесистая местность не позволяла им ориентироваться.
Мы вообще приспособились к этим "выкрутасам" властей. И кукуруза – не плохая культура. Если в меру, которая должна определяться только на местах специалистом, который ведет хозяйство. Зная, что в августе неудавшиеся посевы будут списаны с баланса хозяйства за счет государства, мы относили на кукурузу все затраты с других культур, облегчая баланс хозяйства. Улучшали плодородие своих земель за счет государства, готовя поле (бывшее кукурузное) к посеву озимой пшеницы. Таким образом, игру властей обращали в общую пользу. Лишь бы средства (деньги, удобрения, машины) давали.
Я до сих пор не люблю апрельские солнечные теплые дни, пригревавшие кабинеты комсоветских начальников. Они звонили, грозили, чтоб сеял. Приезжали сами, посылали этих, главных, каждый год менявшихся фигур (им все равно, где работать, то ли в санатории, то ли в крематории, как мы шутили) следить, начали мы сеять или не начали. Приходилось врать, давать в сводку данные о севе, гоняя в поле с культиватором трактора (проверяя уровень готовности техники к сезону после ремонта). Ведь главное агрономическое правило нельзя нарушать: семена должны попасть в прогретую почву, иначе они сгниют. Надо следить за температурой почвы, а не в кабинетах и т. д. и т. п.
Это я рассказываю о том, как вытравлялась самостоятельность из человека, как шло превращение его в не думающий винтик, так удобный для вертикали власти, строящей коммунизм (для себя, конечно). Как тут могло остаться крестьянство с его громадным (за тысячелетия) опытом приспосабливаться к природе. Только этот опыт, возможность и необходимость обдумывания и принятия решений самостоятельно каждый день позволяли бы получать удовлетворительные результаты в сельском хозяйстве.
Но комсоветская система вытравляла все крестьянское и у специалистов-потомков крестьян, превращая их труд в бессмыслицу.
(Последующий опыт жизни показал, что и в науке, и в чиновничьих хоромах – везде действовал этот процесс обесчеловечивания, превращавший жизнь в стране, строящей какой-то мифический коммунизм, в бессмысленность).
Крестьянский труд, крестьянская жизнь вообще требует постоянного осмысления постоянно изменяющихся природных условий. Нет двух одинаковых дней, нет двух одинаковых сезонов (лета, осени, зимы, весны). И нет (да и не будет) достоверного прогноза на следующие дни, недели, месяцы, а тем более годы. Крестьянский труд – это творчество. Результативность этого творчества определяется способностью (интеллектом) конкретного земледельца и его умением использовать опыт и знания, накопленные предками за тысячелетия. Сплавом этих двух факторов. Не от суммирования их, а от произведения (вернее – функции). Если один из факторов равен нулю, то и результат будет равен (близок) нулю.

