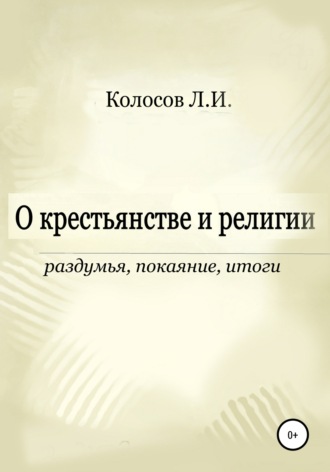 полная версия
полная версияО крестьянстве и религии. Раздумья, покаяние, итоги
И вот остался один год до окончания десятилетки. Одна зима, как говорили раньше в деревне… Отец съездил в Москву к своему сыну, а моему брату Николаю, который уже несколько лет работал на стройке высотного дома в Зарядье. Приехав, отец с порога сказал:
Поезжай!
В конце июля 1954 г., оформив с помощью моего брата Михаила паспорт, попрощался я с деревенскими своими друзьями. Как сейчас помню, сидели мы на лугу, и они мечтательно приговаривали:
– В Москве-то ведь, эх, асфальт. (Асфальт мы видели только в кино).
…Защемило сердце, когда скрылась в пыльной дали деревня, до боли знакомые родные места… А что ждет меня на далекой чужбине…?
Присоединившись к уроженцу нашей ближайшей деревни Черное озеро, жившему уже в Москве, ехал с ним в Москву, первый раз увидя железную дорогу, большой город, метро и т. д. Он доставил меня к брату, жившему с женой Валентиной и с маленьким сыном Вовой в 8-метровой комнате коммунальной квартиры полуразрушенного дома в Зарядье, возле железного остова будущей гостиницы «Россия». Из окна комнаты была видна Спасская башня Кремля. Ух!..
Все. Продолжились мои «в людях» и «университеты», трудные, как и для всех, кто бежал тогда из деревни в город. А нас здесь никто не ждал, «лимиту», «дяревню».
Долго ходили мы с братом по кругу… до отчаяния. В школу не берут из-за отсутствия прописки, в милиции не прописывают – не числишься в школе. Только случайно директор небольшой школы № 399 в Серебряническом переулке (возле высотного здания на Котельнической набережной) Видишев… оказался фронтовиком, как мой брат, и на этой основе был найден общий язык. Но приняли меня в 10 класс с одним условием – если буду хорошо учиться (ведь из сельской школы, из глухомани я явился). Если плохо – снова в 9 класс. А это для меня было абсолютно неприемлемым. Нужно продержаться одну зиму!
Пришлось учиться лучше всех, напрягая все имеющиеся силы. Огромное спасибо всем учителям этой школы. Они относились ко мне очень хорошо. По-матерински тепло, но и строго, как и следует классной руководительнице, – Роза Исаевна Беленькая, преподававшая немецкий язык. (Из-за хорошей учебы неожиданно вышедшего из вятского далекого леса ученика у них было, по-моему, преувеличенное представление о моих способностях. И я потом долго носил в себе некоторое неудобство, что не оправдал, их ожидания). Даже по сочинениям стал получать пятерки. Правда «сочинял» своеобразно. В исторической библиотеке, расположенной недалеко от моего проживания, я писал по книгам сочинение, запоминал его со всеми запятыми и в классе выкладывал на бумагу. К весне стал ездить по институтам (Бауманский, Энергетический) как хорошо владевший математикой – мне учительница давала дополнительно книги уже по интегрированному и дифференциальному исчислению. И только тогда понял свою оплошность. В сельской школе мы «чертили» под руководством физрука только в тетрадях в клеточку. А в Москве все спокойно готовили чертежи довольно сложных деталей. Я испугался и стал переписывать с подсветкой изготовленные другими чертежи. Но оказалось, что первые 1–2 курса в технических вузах черчение – основной предмет, где «сыплются» студенты. Исправлять мне было уже поздно. Без стипендии я учиться не смогу. Что делать? В военный вуз, на гособеспечение. Мне стали оформлять направление в Высшее военно-морское училище, в Ленинграде. Но у меня была еще одна закавыка. Простуженные в детстве уши слышали наполовину. Говорить о своем физическом недостатке мне было стыдно. Что делать? Приеду на экзамены, не пройду комиссию. Потеряю время. Куда деваться опять. Шел по улице в глубокой задумчивости. Смотрю – поликлиника. Зашел к отоларингологу и попросил посмотреть, возьмут ли меня с такими ушами в военное училище? Он твердо сказал:
– В армию солдатом – могут, а в училище – нет.
Все. Стал думать, перебирать. Случайно узнал об институте инженеров с/х производства. Но и там черчение. И на обратном пути вижу объявление о приеме в Тимирязевку. Уточнил, не надо черчение? На надо. Все решено. Пусть агрономом (а у нас в деревне была поговорка с матом: был бы дождь да гром, так… зачем нам агроном), но хоть что-то свое, родное. Прощай, техника, прощай, математика…
Поступил. Прихожу 1 сентября. А мне не дали общежития, мол, из Москвы. Пошел к зам. декана Киселеву А.Н., а он говорит: «Не можете без общежития? Ну, что ж, у нас многие просят принять их без общежития. Пойдем на замену». 10 дней пожил на кухне у брата. Сидел на занятиях с подергивающимся глазом. Потом нас послали на уборку, где познакомился со всеми «коллегами» по учебе. В основном, такими же деревенскими. Подсказали ребята, что этот вопрос решит студсовет и конкретно ответственный за бытсектор…… После приезда взяли меня пятым в комнату студенты нашего курса Китченко Иван Ильич (1928 г. р.), Козюля Иван Александрович (1933 г. р.?) и близкие по возрасту Литун Борис Павлович и Таов Анатолий – 3 украинца и черкес. Литун и Таов – тоже сироты, воспитывавшиеся у дедушек с бабушками. Получилась, на мое счастье, пусть временная, но братская семья. Наладили питание «из ничего», поддерживали друг друга. Разлада не было. Благодарная память о вас, ребята, умрет только вместе со мной. Вот такая «коммуна» действительно позволила измученным и оскорбленным людям выстоять в этом бедламе, преодолевая трудности. Первую стипендию у меня взяли в качестве оплаты за учебу (отец, хоть и старый, ничего не зарабатывающий и не получающий никакой пенсии, а о матери в статье закона не упомянуто). Кое-как продержался до февраля. (Хорошо, что в студенческой столовой был хлеб тогда бесплатным. Хорошо Сталину, за счет бесплатного труда крестьян зарабатывать авторитет среди горожан и опасного для него пролетариата). А дальше за отличную учебу я получал сначала повышенную, затем именную, а последние 3 года самую высокую тогда (стипендию. Я так, пожалуй, излишне подробно рассказал о себе, чтоб показать конкретный пример освоения города деревенскими. Какое сопротивление окружающей среды и своего внутреннего мира надо было преодолеть, не сломаться, не потерять себя!
Не всем удалось. Потери очень значительны. Слишком неестественным было это перемещение – выброс из одного мира в другой. Без твоего и окружающих желания. Я знаю слишком много конкретных трагических примеров, но приводить их и называть конкретные Ф.И.О. принципиально не буду. Раны не зажили, кровоточат, и долго еще будут кровоточить у них и в памяти их потомков. Не они, а им комсоветы сломали судьбы. От каждого из нас мало что зависело. Мы были пешками, щепками на волнах взбудораженного большевиками – мародерами людского моря. Чаще спасала, как у меня, счастливая случайность. Очень глубоко еще в 20е годы, очень молодым понял трагическую ситуацию с российским крестьянством Сергей Есенин:
…Земля – корабль. Но кто-то вдруг
За новой жизнью ль, новой славой
В прямую гущу бурь и вьюг
Его направил величаво!
Ну кто тогда на палубе большой
Не падал, не блевал и не валялся!
Их мало с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался!
Многие мои земляки, мои сверстники прошли через тюрьмы, кто за хулиганство, кто за воровство, спились от безнадеги. Большинство уже в земле в разных уголках нашей бедной измордованной страны… и зарубежья. Спился мой самый близкий друг детства – Ванюрка…
Эх, комсоветы, комсоветы! Перемололи вы нас, уже колхозных крестьян, уже какого-то дребаного социалистического сельского хозяйства, основательно, абсолютно безжалостно, до сих пор не чувствуя никакого угрызения совести. Наверное, ввиду ее полного отсутствия.
Если это социализм, то никакой более зловещей формы человеческого общества придумать невозможно. Отряд довольно многочисленных ничего не производящих паразитов – пауков (так называемых рукамиводителей), злобно присматривая друг за другом, поет веселые «патриотические» песни, приплясывая на костях миллионов расстрелянных, умерших от «гениально» организованных трехкратно примененных голодоморов, до сих пор в значительной мере не похороненных («без вести пропавших») защитников социалистического отечества, замученных непомерными поборами в сталинских резервациях – колхозах, безвременно загубленных, сумевших правдами и неправдами сбежать из этих резерваций крестьян – колхозников, в шахтах, химкомбинатах и «строго закрытых» предприятиях…
В смертельно опасный хоровод эти размножившиеся на благоприятной для них почве пауки вовлекли большую часть жителей нашей многострадальной страны, предварительно «очистив» их головы и души от «опиума» – за тысячелетия отработанной человечеством милосердной и одновременно строгой религиозной философии жизни, которая поддерживала хрупкий, но единственно возможный мир между иногда диаметрально различающимися людьми в семье, в деревне, в городе, в стране, на земле в целом. Эта «очистка» и уничтожение деятельной цементирующей части крестьян, мыслящей части «гнилой» интеллигенции позволила паукам разрушить хрупкий мир в семьях, деревнях, городах и в стране, натравив людей друг на друга, разделив их тем самым, чтоб властвовать.
Если это социализм, то не хочу его пожелать ни одному народу мира, ни одному человеку земли. Недаром за рубежом получило широкое признание понятие «советская угроза». Народам мира нужно очень серьезно учесть наш весьма поучительный опыт – путь уничтожения – гибели человечества, разработать и освоить профилактическую прививку от этой опаснейшей заразы.
В заключение этого раздела – необходимые примечания.
Москвичам и жителям других городов, куда мы прибежали, была видна и, разумеется, не совсем приятна наша «некультурность». Ничего не поделаешь, надо признать, культура у нас, прибежавших в города из средневековой деревни, нещадно веками обдираемой, была низковата, особенно бытовая. Мы не знали унитазов, носовых платков, да очень многого из бытовой культуры современного цивилизованного человека. Не очень грамотные, не начитанные (негде и некогда было), с узким кругозором. Культуру городов наш массовый приезд, конечно, понизил.
Мыслящие горожане с пониманием (всего этого и более этого) относились по-доброму к нам. Помогали нам, подталкивали уважительно к повышению культуры, не оскорбляли нас.
Но в среде горожан уже тогда (а, наверное, всегда) было значительное количество с невысоким интеллектом да и культурой. Эти горожане воинственно презирали нас, обзывая «лимитой», «дяревней» и т. д. (Кстати, эта часть москвичей сейчас, когда наш поток иссяк, а город без приезжих обходиться не может, также воинственно кричит: «Москва для москвичей!», обзывая новыми кличками вновь приезжающих).
Слушать спокойно таких горожан было тяжело. Приведу два примера из своей жизни.
[Помню, в Министерстве сельского хозяйства одна из гардеробщиц, с «умными» глазами, по случаю какого-то юбилея, сверкая одной ли двумя «большими» медалями, громко вещала:
– Зачем эту «дяревню» выпустили, вот и некому стало работать в колхозах!
Ей, конечно, я счел бесполезным что-то объяснять и доказывать. А однажды в курилке один из специалистов, тоже, как и я, окончивших Тимирязевку, коренной ухоженный москвич глубокомысленно изрек, что, откровенно говоря, у деревенских ограниченное количество извилин, что ни говори. Я спросил:
– Ну и как ты, наверное, с отличием кончил ТСХА?
– Нет с простым дипломом.
– А я, с небольшим количеством извилин – а с отличием.]
Но в целом, по-разному оценивая отношение к нам, деревенским разных слоев горожан, я глубоко благодарен всем москвичам и жителям других городов за то, что они дали нам возможность выжить, когда мы «осуществляли» исход из деревни из-за абсолютно невыносимых условий, созданных нам «рабочее – крестьянской» комсоветской властью.
В том, что я сумел выбраться из ямы, уготованной для детей «реакционного» крестьянства «великими преобразователями человеческого общества», многое зависело от удачи, но еще более от помощи, милосердия людей, которым я благодарен до конца своей жизни.
Это, в первую очередь, мои братья. Старший, Михаил, наш поводырь, между нами разница в 24 года. Он толкнул нас на путь учебы, тяжкий, но плодотворный. В трудные минуты мы знали на кого опереться. Александр, инвалид войны и рано умерший, находил как-то возможность помочь мне материально. Благодаря Николаю и его жене Валентине Яковлевне, живших в 8-метровой комнате коммунальной квартиры полуразрушенного дома в Зарядье с маленьким сыном Вовой, мне удалось закончить 10 класс. А перед этим, разве мог бы я учиться в 8-м и большей частью 9-го класса за 25 км пешего хода от деревни при стареньком уже отце и умирающей матери, если бы не Сергей и его жена Любовь Васильевна, жившие в этот период в районном центре, где была средняя школа? Если бы не Анатолий, мой няня (разница между нами лишь 7лет), делившийся со мной своими брюками, рубашками и костюмом, когда служил в армии? К великому сожалению, все они, мои братья, уже ушли из жизни.
Если бы не мой одноклассник Геннадий Кубарев и его родители, приютившие меня с марта по июнь в конце 9-го класса? Когда мама умерла, отца приютил Александр, а Сергея из районного центра направили председателем отдаленного колхоза.
А разве можно забыть учителей, которые всячески поощряли мои усилия, вселяя в меня уверенность в своих силах? Это Швецовы Антонида Павловна и Анатолий Петрович, Вахрушева Таисия Андриановна и Машкина Валентина Ивановна в Вынурской начальной школе, Игитов Иван Трофимович и Машкин Василий Никитич в Устьянской семилетке, Решетников Геннадий Максимович в Тужинской средней школе, классная руководительница Беленькая Роза Исаевна и супруги Видишевы 399 школы г. Москвы.
Спасибо моим однокурсникам после поступления в Тимирязевку (Китченко И.И., Литуну Б.П., Козюле И.А. и Таову А.Х.), которые согласились принять меня пятым в комнату, где должно быть не более четырех.
И никогда не забуду своих родителей, сотворивших меня на исходе своих сил, но успевших воспитать во мне трудолюбие как единственное средство устройства жизни, привить мне иммунитет к плохому.
1954–1991 гг. Послетиранский период. Строительство коммунизма, социализма с «человеческим лицом»
Все народы, все страны имели в своей истории провалы. Упасть в яму при движении легко, выбраться из нее – трудно. Характер, доблесть и перспективность проверяется и оценивается при преодолении препятствия.
Самое большое отличие нашей трагедии XX века, в сравнении с другими, в том, что мы не только не вышли из нее, но и не осмыслили, куда попали. Это усугубляет последствия, ставит вопрос о нашем будущем. А мы стоим на краю пропасти и блаженно улыбаемся, как дети….
Мы не смогли, да и не могли, наверное, сразу развернуться в пути после смерти тирана в 1953 г. Слишком долго были в темноте, ослепли, не видели, куда и как дальше идти. Человеку винтиком быть нельзя, он может безвозвратно перейти в более низшую категорию живого, потеряв человеческий облик, а главное, духовную нашу составляющую, связывающую нас с духовным началом Вселенной, с Творцом, по подобию с которым мы сотворены.
Да и много тогда еще осталось среди правителей больших и малых, не желавших снимать повязку с наших глаз. Они боялись, что мы увидим их диавольскую, сатанинскую сущность. И чтоб нас не разбудить от летаргического "коммунистического" сна, придумали и настоятельно стали внедрять в наш еще не проснувшийся разум "хитроумный", в их стиле, демагогический миф: Сталин, да тиран и извратил коммунистическое учение, великие заветы великого Ленина, а мы поведем вас по-ленински по пути, указанному Лениным, к заветной цели… опять к коммунизму.
И сделали из полуистлевшей мумии главного диавола (который приказывал уничтожить святые мощи) красивого идола – "самого человечного человека", прикрываясь которым, практически теми же методами повели нас, полусонных лунатиков, к мифической цели – к так называемому коммунизму. (Мне думается, многие эти ленинцы уже в никакой коммунизм для всех не верили. Да и зачем он им – они-то уже жили при коммунизме, подключившись к крану народного добра.) Главное, чтоб мы слушались их и обеспечивали их растущие с каждым годом потребности.
И так от Хрущева до Горбачева – от Сергеевича до Сергеевича включительно. Правда, к концу эпохи рассказывали уже о каком-то социализме с «человеческим лицом». Как будто может сатанинская придумка быть человечной. Если только маской человеческой ее прикрывать!
А крестьянский вопрос остался в принципе без изменений. Не только в плане свободы и самостоятельности, но и прав гражданина страны и улучшения минимальных социальных потребностей. Правда, и не принималось жестких целенаправленных мер по уничтожению крестьянства как класса. Это дело было уже завершено. Стоял лишь один вопрос: о развитии сельского хозяйства…без крестьянства. Главное звено в развитии человеческого общества – сам человек. Если он раб, полураб, то он и не заинтересован в развитии такого общества, и общество, страна будет деградировать. За все эти годы мы не сделали основного – не дали крестьянству ни земли, ни воли, пока оно еще было в качестве и количестве, достаточном для возрождения.
Вместо того, чтобы колхозников сделать снова свободными крестьянами, творцами, равноправными людьми страны – а это главное условие возвращения страны на цивилизованный путь развития сельского хозяйства и всей экономики, – были испробованы и успешно скомпрометированы приемы и технологии из арсенала современных цивилизованных стран (механизация, химизация, мелиорация, интенсификация на основе научных достижений и т. п.).
Иной пример решения аналогичной задачи с положительным результатом – в Китае, когда эта страна стояла также близко к пропасти (масштабный голод, до людоедства) после коммунистических скачков Мао Цзедуна. Но когда умер Мао Цзедун, а к власти пришел репрессированный, но как будто специально сбереженный для будущих дел Ден Сяопин, был сделан резкий разворот: коммуны распущены, крестьянам отдали землю (правда в пользование, а не в собственность, как и у нас во время НЭПа, что, конечно, станет в будущем проблемой), коммунистическим управленцам под страхом серьезных наказаний запретили вмешиваться в хозяйственную жизнь крестьян. Об этом я с большим удивлением и завистью читал сообщения нашего атташе, работая в те годы в МСХ СССР. «Не важно, какого цвета кошка, главное, чтоб мышей ловила" – таких ключевых слов от наших руководителей мы не дождались. И все, через несколько лет было покончено с голодом. А мы со своим социалистическим сельским хозяйством, имея самую большую площадь сельхозугодий, стали получать из Китая мясные сосиски, сначала, правда, тонюсенькие. Но и этому были рады.
У нас комсоветская болезнь зашла очень глубоко. Слишком много было инфицировано ею людей нескольких поколений. Наверное, даже в геном советского человека уже вошло понимание: главное не то, где и как ты работаешь, производишь ли чего, главное, чтоб был красного цвета, то бишь коммунистического, и повторял громко вколоченные в мозг коммунистические сказки.
Многим даже понравилось жить по-коммунистически. И не только комсоветским рукамиводителям, но и значительной части так называемого "простого народа", прикормленного пусть тонкой струйкой гособеспечения, да постоянной, при которой также можно не беспокоиться. Правда, это обеспечение было на уровне пособия по безработице в цивилизованных странах. Но ведь зато и работать можно было соответственно.
Развитию нашей страны мешал и мешает до сих пор миллионный отряд работников «ленинско-сталинской гильотины", сумевшей переработать рекордное в мире количество собственных граждан другого цвета, не большевистского, не советского. Они не получили по закону "запрета на профессию", как в Германии. Сохранены и выпестованы целые династии этих "важнейших" работников коммунистической формации, без которых она не может существовать.
Такую же роль играли не менее многочисленные отряды работников идеологического фронта, то бишь, союзы интеллигенции (писателей, артистов, музыкантов, художников и т. п.), которые по "принципиальным" соображениям не могут петь другие песни, кроме коммунистических.
Вот такое краткое пояснение к процессам, которые проходили в этот период. Период массовой реализации решения КРЕСТЬЯН об исходе из деревни, чтобы стать равноправными гражданами страны.
После отмены в конце 1953 г. сельхозналога петля на шее колхозного крестьянства ослабла, стало можно дышать и жить за счет осырков (огородов) и личного хозяйства. Но свободы по большому счету прибавилось очень немного. Альтернативы колхозам не возникло. Госпоставки продукции хозяйствами государству, пожалуй, даже возросли, ведь надо же было возместить утрату сельхозналога. Поэтому заработки колхозников не увеличились, начисляясь, как и прежде в пресловутых трудоднях.
Но немного-немного свободнее стало с отъездом из деревни (лучше сказать с побегом из лагеря). "Отпускать – не отпускать" разрешили самим колхозам. Приоткрылась щель (через которую я уехал, сбежал доучиваться в Москву, к брату).
Вместо улучшения жизни в обжитых районах страны путем полного освобождения крестьян от советского крепостного права, появившиеся у государства средства благодаря сокращению военных расходов (атомное оружие было уже создано) были брошены в стратегически неправильном, но тактически эффектном направлении – на освоение целинных земель Казахстана и частично РСФСР (Алтай). Этот бросок дал быструю отдачу. Страна получила хлеб. Я с мая по октябрь 1956 г. работал в студенческом отряде в одном из хозяйств Полуденского района Северо-Казахстанской области вначале на разных работах, а потом помощником комбайнера. Заработал ≈ 500 кг отборного зерна и передал документ на его получение живому еще тогда отцу.
Горы зерна тогда были собраны. Именно горы… под открытом небом. Ни складов, ни элеваторов не было. Сколько сгнило – одному Богу известно.
Акция, которая другими странами тщательно и продуманно готовилась и проводилась весьма успешно и на степных землях (Канада, США), и на морском дне (Голландия), была комсоветами "сварганена с кондачка", осуществлена на одном энтузиазме людей, изголодавшихся по свободе и рванувших из полутюремных колхозов Центра страны. Из нашей деревни уехал (с концами) молодой лучший тракторист Коля Матренин. Главными целинниками надо считать таких работников-механизаторов, оставшихся там жить, а сейчас оказавшихся в другой стране непрофильной нацией.
Мы студенты и агитаторы – пропагандисты партийные побыли, поработали и улетели – шумовой придаток этой акции. Как говорил секретарь комитета комсомола ТСХА Е.И. Сизенко (будущий высокий партийный и советский работник, а позднее академик РАСХН): "Комсомольцу надо хорошо работать, но мало хорошо работать, надо так работать, чтоб шум шел!"
Из-за варварского, захватнического (что типично для большевиков: "главное ввязаться в бой, а там видно будет") вмешательства в природные степные ландшафты через несколько лет разбушевавшиеся "черные бури" унесли распаханную почву. О высоких урожаях было забыто, пока не разработали и не освоили необходимую степную систему земледелия со специальным техническим ее оснащением.
Снова в стране бесхлебье, снова полуголодные 1962–1963 гг., когда хлеб давали по карточкам (правда, эшелоны с зерном в страны "народной демократии" шли, но это вопрос политический, самой "большой политики").
И снова возник неожиданный, но очень быстрый выход, как обычно не в основном русле и логике жизни. Было открыто и начало осваиваться громадное Тюменское месторождение нефти. Появились неожиданные и очень большие валютные деньги. И пошла покупка хлеба из-за рубежа, начавшись с нескольких миллионов тонн и достигнув потом 50 и более млн. т., а затем масла, сахара и другого продовольствия.
Быстро робишь, слепых родишь. Вместо развития собственной экономики и сельского хозяйства в особенности, спонсируешь своей нефтью, а потом газом чужеземную, при своих имеющихся громадных земельных ресурсах.
А самое главное – превращаешь труд своего родного земледельца и его самого в никчемность. Зачем о нем беспокоиться, если и без него обходимся. А когда нефть и другие углеводороды иссякнут или цена на них упадет и голод наступит, что делать будем без крестьянства? Цивилизованные страны всегда найдут выход из энергетического да и любого другого кризиса, не позволят нам держать их на поводке. У них нет сомнений в аксиоме: самым главным богатством на земле является человек, особенно наделенный интеллектом. Они людьми не бросаются, а со всего света привлекают активных, мыслящих, работоспособных работников, обеспечивая их.
Наши крестьяне – тоже люди, худо-бедно найдут себя в других отраслях, если не сопьются. Но сельскохозяйственного производства без крестьян не бывало и не будет, сколько бы аграриев (чиновников-руководителей, переработчиков сельхозпродукции, мелиораторов, машиностроителей, химиков, ученых разного профиля и т. д. и т. п.) не бегало вокруг заросших лебедой полей. Без заинтересованного, умелого, знающего из поколения в поколение работу на земле, свободного рачительного хозяина, живущего землею, то есть крестьянина – ни мелиорация, ни химизация, ни механизация, никакие экономические, интенсивные, биологические и иные изыски полноценных результатов в сельском хозяйстве не дадут. Работа мелиораторов, химиков, машиностроителей, ученых всех специальностей в области сельского хозяйства превращается в бессмысленность, в пустые хлопоты нахлебников, живущих на доходы государства в других областях. Все они живут не землею, а на подачки власти, перед которой они отчитываются о своей отраслевой работе. Все отстрелялись, а добычи нет, но заказчик пусть платит.

