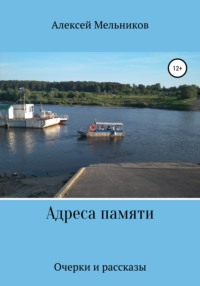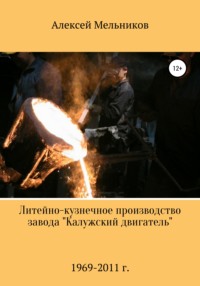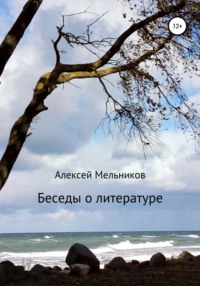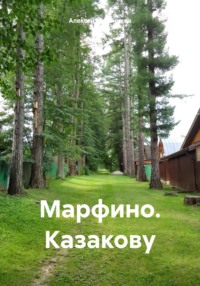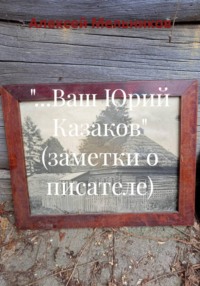полная версия
полная версияБеседы о науке
«Бытие и время» растолковало-таки многовековую загадку бытия. Что сразу же поставило книгу в ряд философских бестселлеров XX века. За одно забронировав ей VIP-места в веках последующих. Поскольку разгадка бытия ничего не упростила.
Обострение бытийного вопроса не случайно пришлось на пик философских изысканий экзистенциалистов. Ибо учение последних возвращало недостающее доселе звено в рассуждениях на тему бытия, некоего сущего, а именно: того, кто спрашивает об этом самом бытие. Стало быть, постановка вопроса «что есть бытие?» уже бытийна и вскрывает сущность бытия через бытийную возможность спрашивания. Её Хайдеггер определил, как присутствие.
Ранее первые шаги в этом направлении сделал Кьеркегор. Как отмечал Мераб Мамардашвили, «основная мысль Кьеркегора – мысль о том, что философы почему-то забывают, описывая мир, что они сами часть этого мира, что инструмент, на котором они исполняют свою философские арии, то же бытийствует определенным образом и что сам вопрос о бытии, который задают философы, есть проявление бытия». Короче, озабоченность бытием, заявляет Мамардашвили, и есть, способ бытия. Хайдеггер поименовал его Dasein, или «здесь-бытие», «человеческое бытие», «уже-бытие». То есть – бытие опосредованно бытием присутствующего.
Философская мысль Хайдеггера продвигалась к вопросу о бытии через бытийность личности. А – не наоборот. Хайдеггер меньше всего на свете был настроен объяснять бытие через сущее. Или – бытие посредством накопленных «внутри него вещей». Подобные вульгаризмы, как правило, характерны для ультра-материалистических воззрений.
Те гласят, что законы Ньютона истинны «от сотворения мира и до скончания веков». И истинность эта вполне может обойтись и без самого Ньютона. То бишь – человека. Хайдеггер готов посмеяться над этакой «бесхозностью» истин, замечая, что «законы Ньютона и всякая истина вообще истинны лишь пока есть присутствие». И далее: «До бытия присутствия, и когда его вообще уже не будет, не было никакой истины и не будет никакой».
«Очеловечивание» бытия, к коему склонился экзистенциализм, оснастило его довольно устрашающими обывательский слух терминами: смерть, ужас, страх, падение, брошенность. Вместе с тем обнадёжило, философски узаконив, казалось бы, вполне житейские и малонаучные понятия, как вина, забота, любопытство, совесть.
Последняя, скажем, по канонам экзистенциалистов на равных участвует в формировании ответа на вопрос о сущности бытия, экстраполируя проблему на бытие присутствующего, которому, чтобы всё-таки быть надобно, как пишет Хайдеггер в «Бытии и времени», «вернуться из потерянности в людях назад к самому себе». В итоге главный философский вопрос о бытие экзистенциализм перепоручает человеку, нагружая его непосильной ношей ответственности (а в равной степени – и свободы, что в принципе подразумевает эту самую ответственность) за это самое бытие.
«Человек, – уточняет Хайдеггер, – то, что он делает». И даже не то, чем он стал. Поскольку он бытийствует, выбирая предложенный ему природой потенциал присутствия до дна, то есть – до смерти. Последнюю Хайдеггер вполне по-экзистенциалистски определил, как «способ быть, которое присутствие берёт на себя, едва оно есть». В итоге всех этих философских изысканий человек обременился заботой о своих деяниях в контексте бытия вообще. Причём деяниях не гарантированно (что проповедуют апологеты теории исторического прогресса) успешных. «Экзистенциализм, – поставил чуть позже точку (или – многоточие) в определении ключевого философского учения Жан-Поль Сартр, – философия действия без надежды на успех».
На вопрос «что есть бытие?» человек в принципе ответ получил. Но сказать, что он кому-то облегчил жизнь, было бы изрядной натяжкой. Он не облегчил жизнь. И даже – несколько её усложнил, обременив ответственностью за свои мелкие (и часто низкие) поступки не только перед лицом своих ближайших родственников и сослуживцев, но и бытия в целом. Тем самым, не исключено, хоть как-то застраховав оное от небытия.
Академик-металлург Сергей Кишкин
В его, академика Кишкина, «святцы» я заглядывал практически ежедневно, приходя на протяжении многих лет на смену в литейку калужской «моторки». То бишь – известного в городе оборонного завода КаДви. Перед моей пузатой вакуумной плавильной печью марки УППФ-3М красовался стенд с таблицами химсостава сплавов, из которых предстояло разливать очередную плавку. Составы были сложные – на полтора-два десятка элементов таблицы Менделеева. В компании с никелем там

Это уже второе наречения металлургического детища Сергея Кишкина подобным эпитетом. Сначала полетела крепость на крыльях – одетый в кишкинскую броню штурмовик ИЛ-2. Было это во время войны, когда молодому учёному на самом высоком уровне поручили спроектировать и отлить надежный щит для мощной крылатой машины. Потом уже полетела крепость на гусеницах – снабженный газотурбинным силовым агрегатом самый могучий советский танк. То было уже в послевоенное время. В промежутке между двумя полетами уместилась масштабная работа выдающегося отечественного ученого-металлурга Сергея Тимофеевича Кишкина по созданию особой сложности жаропрочных сплавов, способных выдержать сверхтемпературные перегрузки, рождаемые в ревущих турбинах, как на земле, так и в воздухе.
Бурно стартовавшее в мире в послевоенные годы газотурбинное дело обещало транспорту (в том числе и военному) качественный рывок в мощности, скорости и эффективности. Однако рывок этот могли сделать только те, кто разгадает секрет изготовления самых критичных турбинных деталей – лопаток, крыльчаток и сопловых аппаратов. Воспринимающих на себя первый и самый мощный температурный удар разогретых газов – до 1000 градусов по Цельсию. Ранее в таких температурных режимах двигательные установки не работали и конструкционных материалов для них не изобреталось. С тех пор борьба за жаропрочность сплавов приобрела в мире довольно ожесточенный характер. Кто первый создаст жаропрочку (так её у нас по-простецки называли в цехе), тот победит в газотурбинной гонке. Прибавка каждого десятка градусов жаростойкости лопаток сулила новые сотни киловатт добавленной мощности газовых турбин.
Как всегда, впереди замаячила спина вездесущих англичан. В середине 40-х им удалось нащупать нужный состав на никеле-хромовой основе. Почти случайно в него попала лигатура алюминия и титана, что привело тамошних ученых к счастливой находке – к сплаву нимоник. Он продемонстрировал редкостные качества по жаростойкости. Его тут же взял на вооружение Роллс Ройс, изваяв из найденного состава лопатки, выдерживающих температуру до 850 градусов Цельсия.
В гонку за уникальными составами включился и СССР. Будучи уже в ранге одного из научных руководителей созданного еще до войны Всесоюзного института авиационных материалов (ВИАМ) Сергей Кишкин усиленно работает над поиском решения нелегкой металлургической задачки, поставленной перед ним турбинистами. И не только ими. Будто бы ещё – и самим товарищем Сталиным. По одной из легенд, будущий академик добивается визита на конкурирующие английские предприятия и под бдительным присмотром тамошних спецслужб исхитряется добыть образцы секретного сплава. Помогли специально подобранные накануне экскурсии по цехам ботинки на пористой подошве. В неё-то, якобы, и затесалась стружка искомого состава. Но это, повторяем, только легенда…
На самом деле команда Кишкина шла своим путём в поисках технологии турбинных лопаток, встав сразу же на неизведанный доселе путь точного литья, отвергнув давно испытанные ранее методы штамповки. Именно литейное решение проблемы изготовления жаропрочной лопатки позволило вкусить все преимущества предложенной Кишкиным теории жаропрочности на основе концепции гетерофазности, многокомпонентного легирования, карбидного упрочения границ. Все эти открытия удалось втиснуть в новую советскую технологию точного литья и изваять в плавильных печах турбинные лопатки с увеличением их жаропрочности почти на 200 градусов. То есть – с колоссальной прибавкой мощности изготовляемых турбоагрегатов.
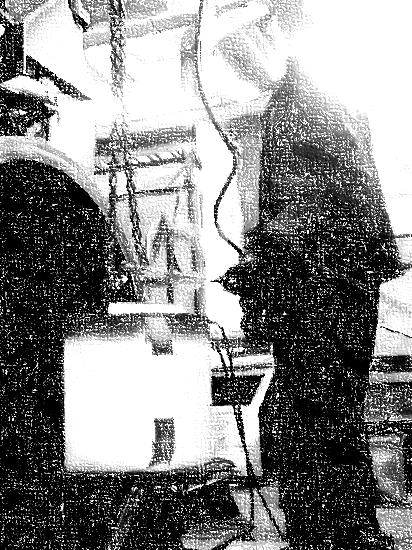
Раскрывший секрет жаропрочности металлов академик Сергей Кишкин сам отличался небывалой крепостью – духовной и физической. Не оставлял научные исследования и консультирование до 95-летнего возраста. Держал отличную физическую форму. Слыл жизнелюбом и хорошим шутником. Умел ценить дружбу. Умел растить учеников. Собрал целый букет научных регалий – от красного диплома инженера МВТУ им. Баумана до лауреата Ленинской, Государственной и нескольких Сталинских премий. Доктор наук, академик, основатель целой школы в отечественной металлургии. Или, по-нашему, по литейному говоря – автор главных молитвословов простых плавильщиков…
Академик Аксель Берг
Хочу провести вас на улицу академика Берга. Того самого, что создал отечественную радиолокацию, не дал окончательно загубить в СССР кибернетику, одним из первых в Союзе проникся проблемами искусственного интеллекта, «отца» всех радиолюбителей страны, основателя легендарного ЦНИИ-108 (радиолокационного), отважного подводника, бравого адмирала, Героя Соцтруда. Улица имени этого уникального человека незатейливо плутает в малюсеньком посёлке Протва, что на одноимённой речке, на самом севере земли Калужской. Аккурат впритык с райцентром, носящим имя бывшего начальника академика Берга по министерству обороны страны – маршала Жукова.

В середине 50-х Аксель Иванович некоторое время ходил в заместителях у Георгия Константиновича. И отвечал, естественно, за радиолокацию. С Жуковым Берга судьба свела дважды. Сначала в высших кабинетах минобороны, затем – на родине великого полководца, ставшей также колыбелью отечественных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Страшно
секретных. И позарез авиации нужных. Их-то Аксель Иванович здесь и покрестил своей уверенной командорской рукой, пустив жить во имя непобедимости наших самолётов и ракет.
Более 60 лет назад в заштатной калужской Протве академик Аксель Иванович Берг создал испытательный полигон средств противодействия от ЦНИИ-108. Впоследствии выросший в отдельный институт – Калужский научно-исследовательский радиотехнический (КНИРТИ). Как-то так повелось, что о нем всегда знали очень мало. А кто знал, предпочитал особо не распространяться. Любая форма любопытства в отношении деятельности этого НИИ воспринималась знающими людьми как праздная. В ответ – легкое касание указательным пальцем сомкнутого рта: "Тс-с-с-с… Военная тайна!» Расшифровка аббревиатуры ничего толком не поясняла. Что за секретная такая наука поселилась в этом крошечном городке? Над чем ломают головы в лесном уединении инженеры?
«Если коротко, cоздаем радиопомехи, которые не позволяют противнику обнаружить и уничтожить нашу технику», – на редкость лаконичны сотрудники КНИРТИ. Понятно, не только нашу, но и тех, кого мы выбираем в союзники. По одной из легенд, якобы детище протвинских учеников академика Берга решило исход «шестидневной войны» на Ближнем востоке. В чью пользу, правда, сегодня мнения расходятся: в нашу или нет, но всё равно – решило.
Как и продолжает решать в воздушном соперничестве с армиями «наших партнёров». То после облётов американских эсминцев российскими истребителями у тех напрочь отказывает вся электроника. То пущенные в сторону наших вертолётов из коварных горных ущелий ракеты меняют курс и пролетают мимо. Много всего сложного и хитрого может произойти в воздухе, когда применяются средства радиоэлектронной борьбы. «Мы оснащаем самолёты шапками-невидимками», – достигают предела откровенности работники таинственного детища академика Берга, что спрятался в живописном лесу на берегу маленькой Протвы.
Сегодня научный микрогородок является, как ни странно, главным хранителем памяти о выдающемся советском академике. В калужской Протве есть улица академика Берга (единственная, кстати, во всём благодарном отечестве). Есть школа, носящая его имя. Наконец, есть звание почётного гражданина города Жукова, присвоенное Акселю Ивановичу посмертно, в 2003 году. Из того немного, что удалось сделать для увековечивания памяти академика Берга на всероссийском уровне, можно отметить разве что присвоение его имени основанному учёным Центральному научно-исследовательскому радиотехническому институту (знаменитому «сто восьмому»).
Впрочем, дело академика Берга есть кому в России продолжить. Не только в ближайшем будущем, но и в будущем весьма отдаленном. На проходной КНИРТИ читаем объявление о записи протвинской малышни в первый класс: «Приводите!» И подпись: «Администрация школы имени академика Берга».
Физики Игорь Бондаренко и Виктор Пупко
Октябрь 1970-го. Газета «Правда». Маленький квадратик с сухим сообщением ТАСС: «3 октября 1970 года в Советском Союзе произведен очередной запуск искусственного спутника Земли «Космос-367». На его борту установлена научная аппаратура, предназначенная для продолжения исследований космического пространства. Спутник оснащен передатчиком. Радиотелеметрическая система шлет сигналы в координационно-вычислительный центр». И всё-то у «Космоса-367» хорошо, всё-то штатно.

Так мир должен был узнать о выводе советскими учеными ядерных энергетических установок в космос. Но он об этом не узнал, хотя и был соответствующим образом оповещен ТАСС. Не узнал он и о том, какая начинка была в советском спутнике. Не понял, что никакого штатного режима в «Космосе-367» не было. Что на орбиту 1030/932 км аппарат был выведен аварийно после единственного полуторачасового витка на штатной орбите 266/241 км. И что причиной экстренного поднятия орбиты стал перегрев жидкометаллического теплоносителя в бортовой ядерной установке. А случился этот перегрев из-за косорукости сборщика, «скрутившего голову» контрольной термопаре на реакторе (к слову, он в этом так и не сознался).
Так трагикомично начиналось воплощение заветной мечты человечества – полетов за пределы Солнечной системы. Возможно, лет через сто-двести люди с благодарностью вспомнят про этот «блин комом», но в те годы первое «прощупывание» дальнего космоса казалось фантастической идеей. Именно поэтому так переживал за свое ядерно-космическое детище один из его отцов-основателей – профессор Обнинского Физико-энергетического института (ФЭИ) Виктор Пупко. Именно ради этого за шесть лет до первого старта, в мае 1964 года, занимался изнурительной научной работой над реакторами на быстрых нейтронах и расчетами космических полетов на ядерных ракетах еще один фанатик космоса – профессор ФЭИ Игорь Бондаренко.
…Игорь Ильич с юности поклонялся Циолковскому. Завороженно слушал рассказы о встречах с калужским гением-самоучкой своего университетского наставника академика Дмитрия Блохинцева. Итог: молодой ученый променял аспирантуру у будущего нобелевского лауреата академика Николая Семёнова на работу в обнинском ФЭИ. Плодом же сотрудничества Блохинцева, тогдашнего директора института, и Бондаренко в начале 1950-х стало развитие совершенно нового в ядерной физике направления – реакторов на быстрых нейтронах. Их главным отличием от «тепловых» была несравнимо большая мощность, а значит, более серьезная перспектива для вывода космических аппаратов к звездам. В связи с этим долгое время бытовала легенда, будто именно Бондаренко предложил Королёву создать искусственный спутник Земли …
В те годы Бондаренко «заразил» космосом еще одного талантливого фэишника – Виктора Пупко, с которым они однажды, как вспоминал Виктор Яковлевич, решили засесть за расчеты реактора для ядерного ракетного двигателя (ЯРД) просто так. На спор. Вышло, что до первой космической скорости 8 км/с можно разогнать ракету весом около 100 тонн, сообщив ей при этом тягу порядка 200 тонн. Вновь вспомнили Циолковского – рабочим телом (т. е. веществом, выбрасываемым из сопла ракеты и одновременно теплоносителем) избрали предсказанный им водород. Это давало максимальный импульс.
Расчеты дошли до министерства. В Обнинск тут же прибыли Королёв, Мишин и Глушко. Работа кипела. Авторов проекта уже иначе как «марсианами» не называли. К ним подключились колоссальные инженерные силы страны. И уже в 1968 году невероятная идея материализовалась в реакторе с тягой 3,6 тонны. Испытания проводили в Семипалатинске, но ядерный ракетный двигатель так в космос и не полетел. «Роды» оказались преждевременными. Раньше срока лет на сто…
«Как бы предчувствуя, что его жизнь будет очень короткой, – писал о друге Виктор Пупко, – Игорь очень торопился жить и творить ради воплощения своей заветной мечты». И потому параллельно с работами по ЯРД «обнинские космонавты» «заболели» еще одной идеей – попытками подзапрячь космический реактор на выработку электроэнергии для межпланетных полетов. Итак, по инициативе Бондаренко и Пупко в Обнинске началась эпопея с созданием ядерных энергетических установок (ЯЭУ). Сначала пошли по традиционному пути: от реактора получали тепло, которое потом переводили в электричество. Потом нашли дорожки «попрямей» – полупроводниковые термопары и термоэмиссионный вариант.

В первом случае один полупроводниковый спай помещается в холод, а другой – в тепло. Тогда-то между ними и пробегает электрический ток. С холодом в космосе всё в порядке – он повсюду. Для тепла же годился металлический теплоноситель, что омывал портативный ядерный реактор. Так начались работы по созданию ЯЭУ системы «Бук», те самые, в которые так безалаберно вмешался известный нам уже «инкогнито с отверткой» и заставил ТАСС изображать официальный оптимизм по поводу якобы успешно выведенного на орбиту «Космоса-367».
Последовало еще 34 пуска. Более удачных. Хотя один спутник все-таки упал в 1977 году в Канадскую тундру и вызвал не только жгучий интерес американцев к найденным возле Большого Невольничьего озера кускам полупроводников и бериллиевым остаткам, но и необычайно смелые комментарии произошедшего в советской прессе. Газеты вынуждены были объявить, что на борту «Космоса-954» действительно «имелась небольшая ядерная невзрывоопасная установка, предназначенная для энергопитания бортовой аппаратуры» и что «конструкция энергетической установки предусматривала ее полное разрушение и сгорание при входе в плотные слои атмосферы».
В общем, светлые полосы в исследованиях чередовались с темными. Дело Игоря Бондаренко и его последнее страстное увлечение – работы по термоэмиссии – теперь продолжал Виктор Пупко. Это был еще один вариант прямой трансформации ядерной энергии в электрическую. По сути, тот же принцип, что и в полупроводниковом преобразователе, но вместо холодного и горячего спая были использованы горячий карбидурановый катод и холодный стальной анод, а между ними находились легко ионизирующиеся пары цезия. Эффект – электрическая разность потенциалов, т. е. натуральная космическая электростанция. В 1970 году в 224-м корпусе ФЭИ была запущена первая наземная атомная термоэмиссионная установка, получившая наименование «Топаз». А 17 лет спустя этот самый «Топаз» взлетел в космос на одноименном спутнике с порядковым номером 1818.
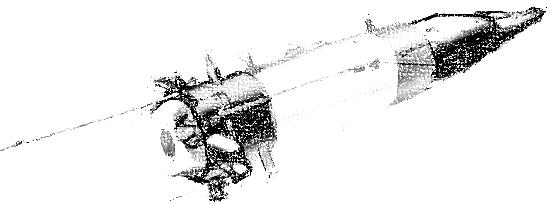
Пришло время наград, государственных премий, международного признания «обнинского космоса». В 1995-м Виктор Пупко и Георгий Грязнов (НПО «Красная звезда») первыми из иностранцев удостоились американской премии Шрайбера – Спенса (Лос-Аламосская лаборатория, США) «за выдающиеся достижения в использовании ядерной энергии при космических исследованиях». «Премия для нас стала совершенно неожиданной, – вспоминал один из «космических соратников» обнинских ядерщиков Грязнов, – но потом мы поняли, в чем дело: американцы искренне удивились тому, что в Советском Союзе летает реактор-преобразователь мощностью 7 кВт. Американцы же дальше 0,5 кВт так и не поднялись…»
Сегодня в обнинском ФЭИ имена Игоря Бондаренко и Виктора Пупко почитаются свято. Главная площадь города, от которой берет свое начало «Государственный научный центр Российской Федерации – «Физико-энергетический институт», носит фамилию Игоря Ильича (для большинства коренных фэишников он, впрочем, так и остался Игорем).
«Слишком много вокруг этих людей – Игоря Бондаренко и Виктора Пупко – было закручено идей, – говорит бывший директор ГНЦ «ФЭИ», один из их учеников профессор Анатолий Зродников. – Но дело, которым они занимались, опережало время. Это сегодня очевидно, что ключ к мировому могуществу – познание космоса. И потому американцы создают свою ПРО – космос плюс информация. Но основоположниками этого были наши специалисты – Пупко и Бондаренко».
В последние годы жизни профессор Пупко был одержим абсолютно фантастической, даже бредовой, как считали многие его соратники, идеей – фотонными двигателями. Дело в том, что у космических ядерных энергетических установок, начатых Бондаренко, обнаружилась перспектива – возможность использовать в качестве ракетного толкача испускаемые двигателями тепловые фотоны. Получался максимальный импульс рабочего тела – ведь фотоны отталкиваются от летательного аппарата со скоростью света. Что может быть заманчивей? Поэтому эта идея и завладела «обнинскими космистами». Пусть не ко времени. Но кто-то должен был начать …
Математик и экономист Леонид Канторович
Среди созвездия отечественной науки, даже его самого ослепительного ядра – узкой когорты наших нобелиантов – Леонид Канторович всегда смотрелся чуть-чуть особняком, чуть-чуть приглушённо, виделся почти в тени то ли внешних обстоятельств, то ли внутренней сдержанности, но как бы то ни было неизменно производил впечатление какой-то недовостребованности, недораскрытости, недорасказанности…

Все знают о Нобелевской премии Андрея Сахарова, что оглушительно обрушилась на опального советского физика в 1975 году. Но не все отдают себе отчёт в том, что именно в этот год Нобелевскую премию получил ещё один советский учёный – Леонид Канторович. Кстати, одно время коллега Сахарова по атомному проекту. Оба нобелианта получили премии не совсем по профилю: создатель водородной бомбы физик Сахаров – за мир, теоретик функционального анализа и разработчик теории линейного программирования математик Канторович – по экономике.
Роднило обоих лауреатов одно – скептическое, если не сказать враждебное, отношение к своим регалиям родной державы. Сахаров на нобелевском фоне был окончательно проклят. Канторович формально забыт. Причём запятован настолько крепко, что доходило до курьёза, когда знаменитый советский писатель, главред «Нового мира» Сергей Залыгин в своей документальной повести «Моя демократия», рассказывая о новосибирских встречах с Леонидом Канторовичем, горько посетовал, что такой талантливый советский учёный вынужден был эмигрировать в США, откуда, как утверждал С.Залыгин, и пришла к нам новая теория линейного программирования, сделавшая переворот в экономике.
Если такой авторитетный (кстати, с научными степенями) писатель не знал толком о достижениях Канторовича, как, впрочем, и о его судьбе, сделав в одном абзаце документального текста три глобальные ошибки, то, что говорить о «простых смертных», для которых имя Леонида Канторовича, даже с учётом его Нобелевских регалий, мало могло о чём говорить. Нет, академик Канторович, не высылался в Америку, как, например, Солженицын. В психушку, да, попадал, это было – когда уж слишком отчаянно боролся с заскорузлой советской номенклатурой за внедрение новых математических методов в экономику страны. И методы эти (того же линейное программирование) у американцев не списывал, а разработал сам, что добросовестные американские учёные никогда, в общем-то, и не оспаривали, неизменно отдавая пальму первенства в этом разделе экономике выдающемуся советскому математику.