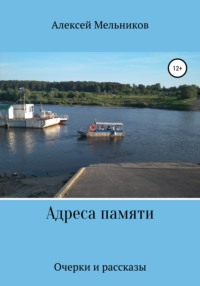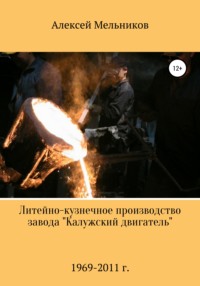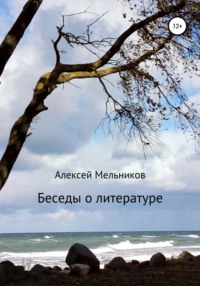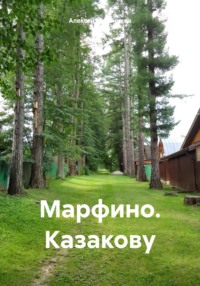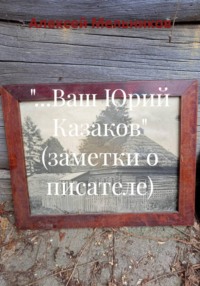полная версия
полная версияБеседы о науке
Астрофизик Борис Штерн
О столетних изысканиях современной космологии рассказывает внук калужского учителя, известный российский астрофизик, доктор физико-математических наук, старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН и астрокосмического центра ФИАН, главный редактор газеты «Троицкий вариант – Наука» Борис Штерн.
«У нас здесь очень красиво. Приезжайте», – сразу же откликнулся на просьбу об интервью известный ученый. «У нас» – это в уютном наукограде Пущино на Оке. Вблизи него Борис Евгеньевич обитает в уютном деревянном домике собственной конструкции с массой хитрых лесенок, веранд, балкончиков, уютных кабинетиков и добродушных собак. Наверху, под самой крышей у окна, – любимое место астрофизика. Маленький стол, два стула, монографии по космологии, ноутбук и морской бинокль. Линзы прибора обращены на живописные приокские дали.
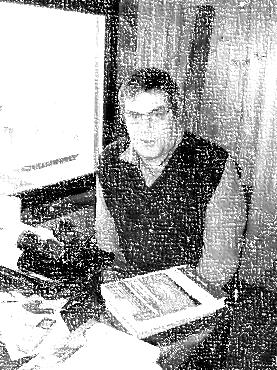
Ока в самом деле обладает аномальным космическим притяжением. Сначала на ее берегах, в Калуге, Циолковский конструировал космонавтику. Здесь же в начале XX века познакомился с молодым калужским учителем Леохновским и заразил того своими звездными мыслями. Мысли эти не пропали даром и резонировали сначала в дочери Леохновского, а затем – и во внуке, ставшем со временем одним из авторитетных российских астрофизиков. Плюс самым ярким из современных подвижников новой космологии.
В своем деревянном домике на Оке, но уже под Пущином, внук «зараженного» космическими мыслями калужского учителя Борис Штерн размышляет о строении Вселенной и пишет захватывающие книги о том, как «всё началось». Причем не только Вселенная, но и современная наука о её происхождении. Начало той, как известно, положил Эйнштейн. Ровно 100 лет назад. Своими изысканиями в общей теории относительности. Потом руку к этому делу приложила масса талантливых российских исследователей: от Александра Фридмана до Андрея Линде и Алексея Старобинского. Ключевую, как выяснилось, роль в этом деле сыграл и Константин Эдуардович Циолковский.
– Борис Евгеньевич, расскажите, как судьба свела вашего деда с Циолковским.
– Мой дед Борис Васильевич Леохновский закончил Московский университет. Причем с золотым дипломом. Но, как это говорят, не на свои деньги. А конкретно – на деньги тестя. Дед был из довольно бедной семьи священников. А тесть – бывший крепостной, после реформы 1861 года разбогател и стал, можно сказать, капиталистом: гончарный завод и все такое… Поэтому после окончания университета дед решил сам зарабатывать деньги и отправился работать в Калугу. Это был 1912 год. По-моему, он преподавал в реальном училище – там же, где и Циолковский. В училище они и познакомились.
– Получается, дед ваш был гораздо моложе Константина Эдуардовича?
– Да, он был с 1887 года – ровно на 30 лет моложе Циолковского. Но разница в возрасте не стала помехой. Они сошлись на почве рассказов Циолковского о космосе. Тот рассказывал, а дед, раскрыв рот, слушал. Был он замечательным слушателем. Так они и подружились. Циолковский приходил в гости. Моя бабушка его даже подкармливала. Говорила, что он, наверное, плохо питается. Жили они, как я понимаю, поблизости. Мама мне что-то рассказывала об этой истории, но помнила она мало, потому что уехал дед из Калуги, когда ей было всего четыре годика. Это был уже 1919 год, когда стало совсем голодно.
– Дед тоже был физик по специальности?
– Нет, чистый гуманитарий. Преподавал литературу и русский язык. Еще – историю. А в итоге – заразился астрономией и космосом. Циолковский даже подарил деду книжку и подписал: «Моему юному другу Борису Леохновскому». Правда, во время войны она пропала. Я, к сожалению, дедушку не застал. Он умер в 1951 году, когда мне был всего лишь год. Но мне достались книги от него.
– Можно сказать, первый толчок в астрофизику и космологию вам достался от самого Циолковского?
– Связь, конечно, с влиянием Константина Эдуардовича есть, но она не столь явно выраженная, скорее – пунктирная. Мой путь в космологию оказался неблизким. После окончания Физтеха я занялся астрофизикой и физикой частиц. Это немножко разные вещи. Хотя космологией я интересовался всегда потому, что дружил с космологами. Много общался с людьми, которые потом стали классиками этой науки. По сути, создателями современной космологии. Это Андрей Линде, Алексей Старобинский, Слава Муханов.
– Можно ли современную теорию космологической инфляции изложить кратко и понятно для людей, не обладающих специальными физико-математическими знаниями? Скажем, тот же Циолковский потратил немало сил на популяризацию своих космических теорий… Не попробуете тут пойти по его стопам?
– В двух словах, конечно, объяснить это невозможно. Чтоб все всё поняли. Но, думаю, можно показать, куда люди продвинулись. Итак, в общих чертах понятно, откуда взялась Вселенная. То есть прояснился механизм ее возникновения. Он стал понятен. Впрочем, осталось непонятным самое-самое начало. Люди продвинулись в понимании до момента, который исчисляется временами 10-35 – 10-38 секунды. То есть чудовищно малое время от какого-то начала, которое мы пока не можем описать. Тут мы приближаемся к так называемым планковским временам, на которых современная наука не работает. Там нет пространства. Там нет времени. В классическим понимании. Есть только маленький пузырек, зародыш Вселенной, который с неимоверной скоростью разрастается. А потом в какой-то момент этот тяжелый вакуум с ненулевой плотностью энергии берет и выгорает. Переходит в частицы. И это мы называем Большим взрывом. Он произошел 13,8 млрд лет назад.
– «Тяжелый вакуум» – удивительное словосочетание. Звучит как «тяжелая пустота» или что-то в этом роде. Это научный жаргон?
– Отчасти да. Хотя в целом правильно отражает суть: энергия вакуума может быть ненулевой. Первые догадки на эту тему появились где-то в 70-е годы. Хотя на самом деле отсутствие энергии в вакууме – это парадокс. Это очень странно. Тут замешана квантовая механика, поэтому объяснять широкой публике такие вещи нелегко.
– Видимо, в природе есть масса мест, где наше воображение буксует?
– И в космологии – в особенности. Как так, чтобы энергия вакуума не была равна нулю? Непонятно. Или – воображение наше вновь буксует, когда мы пытаемся представить замкнутую Вселенную. Далее: что такое Большой взрыв? Люди представляют себе, что что-то такое в пространстве взорвалось и расширяется в пустоту. Что совершенно неверно.
– То есть говорить о том, что что-то в чем-то взорвалось и вот теперь во все стороны разлетается, некорректно?
– Корректно говорить о Вселенной целиком. Проще всего ее можно представить в виде поверхности раздувающегося пузырька, которая замкнута, и все живут на этой поверхности: все частицы, все объекты, все люди – и для них нет лишнего измерения. И обойти этот пузырек люди не могут из-за конечности скорости света. И все эти вещи на самом деле людям довольно сложно объяснить.
– Ваш профессиональный интерес как астрофизика тоже имеет отношении к космологии?
– Пожалуй, лишь с точки зрения космологических расстояний, на которых располагаются объекты, которые я изучаю. Это, как правило, миллиарды световых лет. Я занимаюсь квазарами.
– Борис Евгеньевич, как бы вы оценили нынешний уровень развития отечественной науки? Скажем, в наиболее близких вам отраслях знаний: физике, астрофизике и космологии?
– У нашей науки было великое прошлое, но сегодня наступил период выживания. Причем непонятно: выживет она все-таки или нет. Сильнейшие люди разъехались. Правда, часть из них все-таки осталась. Но все эти люди уже приличного возраста: моего и даже старше.
– Есть риск окончательно утратить старую отечественную научную школу?
– Она еще не утрачена до конца, но риск такой существует. Пока люди живы, пока работают, какие-то знания они могут передать. Тем не менее перспектива того, что в какой-то момент нашу науку придется возрождать с нуля, вполне реальная. Немножко лучше в биологии. Просто физика свой героический период уже пережила.
– Получается, что в физике уже все открыто и нечего больше открывать?
– Интересная рутина есть всегда. Наука двигается не только во времена революций, но и между ними. Больших прорывов на самом деле пока что не предвидится. Может быть, на Большом адронном коллайдере обнаружат еще что-нибудь интересное. Может быть, суперсимметрию или ту же темную материю, например.
– Что-то про нее известно уже?
– Почти ничего. Только то, что она существует. Тут просто деваться некуда. Но она ни с чем практически не взаимодействует. А найти ее можно, только если она где-то себя проявит.
– Глупый вопрос: нужна ли она нам, эта темная материя? Кроме физиков, кому от нее станет лучше? Что в нашей жизни поменяется?
– Опосредованно – многое. Такого рода открытия способны привлечь в науку талантливую молодежь, ее зажечь. Эти люди поднимут не только науку, но и образование в целом. Мы говорим тут уже о функции просвещения. И эта функция на самом деле – главная в науке. В этом смысле та же темная материя – источник просвещения. И это важней любых прикладных выходов в науке. Недаром же именно там, в ЦЕРНе, был придуман протокол WWW, который лег в основу Интернета. Так что, когда люди работают над чем-то сложным, всегда обнаруживаются очень сильные утилитарные ответвления. Но просветительский эффект все-таки мне кажется тут наиболее ценным.
– А как сейчас, по-вашему, обстоит дело с популяризацией научных знаний?
– Стало лучше. Хотя в начале 2000-х был полный мрак. Причем не только у нас, но и на Западе.
– И почему вдруг люди стали вновь интересоваться знаниями?
– Может быть, общество просто насытилось потреблением. Или же в самом деле сыграли свою просветительскую роль некоторые успехи на том же Большом адронном коллайдере.
– Новые космологические откровения, о которых мы сегодня говорим, наверное, тоже подтолкнули людей к умным книжкам и раздумьям?
– Я думаю, что новая космология чисто в мировоззренческом плане гораздо важней для людей, чем, скажем, тот же бозон Хиггса. Картина, которую сегодня рисует космология, гораздо объемней, чем один механизм Хиггса. Он – лишь составная часть всего космологического действа. А из него вытекают глубочайшие принципы. Космология, например, показывает, что вселенных на самом деле бесконечное число. Что они, скорее всего, разные. То есть, грубо говоря, в каждой из них – свои законы физики. Есть даже наметки, показывающие, как случайным образом формируются законы физики в той или иной вселенной. Так что с мировоззренческой точки зрения – это гигантское продвижение.
– Увы, но эти исследования, похоже, нас, нашу Вселенную ставят в разряд мелких крошек мироздания…
– Что поделаешь…
– Как с этим смириться человеку, которого на протяжении всей его истории приучали (той же религией, например, или даже доэнштейновской физикой) к несколько иным схемам сотворения мира? Для человека такие откровения всякий раз оборачиваются серьезным стрессом. Раньше от него избавлялись сжиганием на костре еретиков. А сегодня что жечь придется?
– Слава богу – ничего. Хотя я слышал: мол, да, от ваших умозаключений у простого человека крышу сносит. Но на самом деле-то не сносит, человек остается сам собой и продолжает познавать мир, который гораздо сложнее, чем раньше казалось. И это же страшно интересно.
– Вы редактируете научную газету «Троицкий вариант». Для чего это вам, серьезному ученому, нужно? Явно никаких материальных благ тут не сыщешь. Тогда – зачем?
– Сопротивляться. Газета – это сопротивление надвигающемуся мракобесию. Оно есть, оно продолжается и поощряется. Мы с вами тут говорили о возрождении интереса к науке. Но это – лишь слабый проблеск на фоне наступления каких-то темных сил.
– Например, телевизора: включаешь и тут же выключаешь…
– Вот именно. Я, правда, давно его уже не смотрел – не могу просто, не выдерживаю. Поэтому в меру сил приходится сопротивляться, влиять как-то через научную газету на среду. Ну да, может быть, это еще и общественная работа. Наше дело газетное – поддерживать дух просвещения. Причем везде, где мы можем это делать. Одни, конечно, с этой задачей мы не справимся, но свои «пять копеек» пытаемся внести.
Академик Андрей Сахаров
Их встречу в 1970 году в калужском облсуде впоследствии нарекут по-разному: «счастливой», «роковой», «спасительной», «разрушительной» и т.д. В довольно обшарпанном 3-этажном особняке, что на тупиковой улице Карла Маркса – бывшем владении гражданского губернатора. Ниже – поросший лесом Березуевский овраг с воспетым Гоголем Каменным мостом. Выше – Троицкий кафедральный собор с боксёрским рингом посередине (помню, в школе нас туда водили на соревнования). Вокруг возмущённая толпа: «Антисоветчиков – к ответу!»
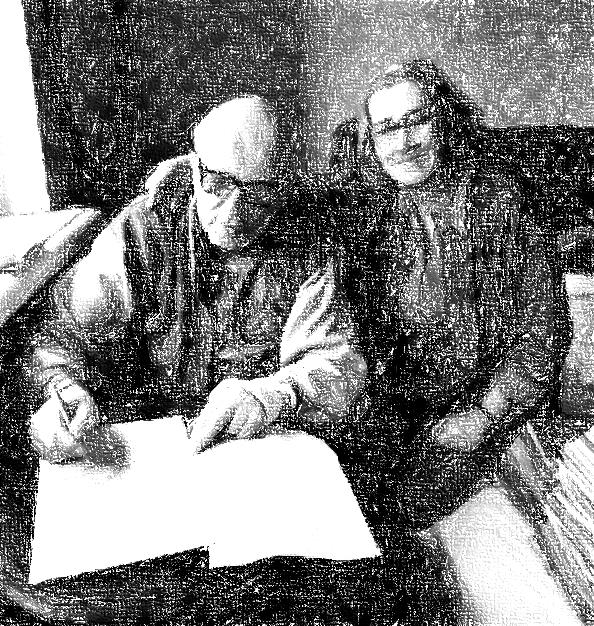
Судили Пименова и
Вайля. Кто такие? За что? За антисоветскую литературу… Помнится, Горький грозился порвать свой российский паспорт, когда узнал, что Надежда Константиновна Крупская составила список запрещённых книг, где наряду с Библией и Евангелием обнаружились Данте, Шопенгауэр и другие «антисоветские литераторы». Впрочем, Алексей Максимович паспорт так и не порвал. А в Калуге судить «антисоветчиков» также не передумали. За Пименовым с Вайлем вскоре последовали Гинзбург и др. И всех их принимал недружелюбный серый калужский дом по улице Карла Маркса,6. С неизменной возмущённой толпой местной общественности – по периметру. Людьми в штатском и в мантиях – внутри. И немногочисленными вольнодумцами, прибывающими из столиц подбадривать провинившихся – в коридорах правосудия.
«Около лестницы стояли милиционеры и дружинники и не пускали на второй этаж, где должен был вскоре начаться суд (как будет мне знакома эта картина беззакония!). Милиционер спросил меня:
– Ваша фамилия?
Немного растерявшись, я ответил:
– Моя фамилия академик Сахаров.
– Пройдите».
14 октября 1970 года он вышел из машины у здания по Карла Маркса,6. В тот же день с электрички на Калуге-1 сошла Елена Боннэр и направилась по тому же адресу. В коридоре облсуда их жизненные пути сойдутся: выдающегося учёного-физика, создателя термоядерного щита страны, не лишённого ещё за это трёх Звёзд Героя Соцтруда, будущего Нобелевского лауреата, академика, «отщепенца», как поименует его вскоре вся советская пресса, и бывшего военврача, правозащитницы и бунтарки. Сойдутся в коридоре в перерыве между заседаниями. Она, как вспоминала позже, хотела угостить его кефиром с булочкой, а он панически замахал руками в ответ. «Какой странный», – подумала Елена Георгиевна. И решила, что Сахаров слишком высокомерный.
Скорее он был сосредоточенный. «Сахаров постоянно что-то писал в ходе судебного заседания», – рассказывал мне много лет спустя один из старейших калужских журналистов, посланный по заданию Калужского обкома партии на этот процесс. Понятно – не в качестве репортёра, а более – «представителя общественности», негодующей массовки. «Все скамьи были заняты специально привезенными из Москвы «гражданами» в одинаковых костюмах, – вспоминал сам Андрей Дмитриевич этот день в Калужском облсуде. – Их одинаковые серые шляпы ровными рядами лежали на подоконниках… Такая система – заполнять зал сотрудниками КГБ, а также другой специально подобранной и проверенной публикой (с предприятий и из учреждений, райкомов и т. п.) – является стандартной для всех политических процессов».
Этих процессов на Карла Маркса, 6, повторюсь, было немало. С приездом в Калугу видных учёных, писателей и даже дипломатов. Ни об одном, естественно, нет в местной историографии никаких упоминаний. В городе это не принято вспоминать. К краеведению, видно, не относится. В том числе – и роль Калуги в судьбе Нобелевского лауреата. Ключевую, как признавался сам Андрей Сахаров, ставшей местом встречи с будущей женой. И главной точкой на карте, куда выдающийся физик и правозащитник хотел бы отправиться в путешествие сразу же после свадьбы с Еленой Боннэр.

«Калугу придумал Андрей, – вспоминала первую совместную поездку весной 1972 года Елена Георгиевна. – Он очень трепетно относился к местам, где мы бывали вместе. Всегда прозревал в них некую судьбоносность. И хотя утверждал, что впервые увидел меня у Валерия Чалидзе, местом встречи считал Калугу. Была
очень весенняя весна. Мы с подачи Андрея посетили музей Циолковского… Бесцельно бродили по городу, вышли к набережной. Она высоко над водой! И противоположный берег! Он весь был как Ах! – весь – бело-розовое облако, под которым едва намеченными видны темные стволы. А над ним нестерпимо голубое небо. Как будто все «Вишневые сады» и Чехова, и всего мира решили лично нам показать себя в своей невыносимо прекрасной весенней силе. Ужинали в гостинице припасами, привезенными из Москвы. А по дороге к ней купили колоссальный букет сирени. В номере никаких ваз не было, и мы пристроили его в пластмассовую мусорную корзину. Запах стоял такой, будто спали в кустах сирени. Так и осталось в памяти от старинного города Калуги здание суда в 1970 году да цветущие калужские сады и аромат сирени в 1972-м».
О них много потом чего напишут. И плохого, и хорошего. Первого – больше, второго – убедительней. Будут и проклятия, будет и уважение. Ненависть и почитание. Забвение и память. Обоим.
Сахарова сегодня не очень чтят. Не в «тренде»: за его критикой Афганской войны легко угадывается сущность всех последующих наших «освободительных». Со свободой был обручён точно с женой, болезненно не выносил тоталитаризм. Сначала укреплял его термоядерными бомбами, затем с тем же отчаянным усилием взялся за демонтаж. За прозрение заплатил жизнью: после очередного выступления на Съезде в 1989 году остановилось сердце. Елена Боннэр на похоронах мужа зарыдала: «Ты обманул меня! Обещал мне ещё три года!» Андрей Сахаров был уверен, что умрёт в 72. Елена Георгиевна пережила мужа на 21 год.
Улица в Калуге, где они познакомились, сегодня больше известна, как Золотая аллея – любимое место прогулок и фотосессий для новобрачных. А напротив некогда грозного здания бывшего облсуда сооружено «Дерево счастья». Есть примета: если молодые приедут на это место и прикоснутся к дереву – их уже не разлучить … Хотя тут же, в трёх шагах – совсем иная инсталляция: варварски обломанный букет гранитных столбов. Мемориал жертвам политрепрессий. Так и стоят они в Калуге рядом: судилище, чистилище, рай…
Прихожане Вселенной
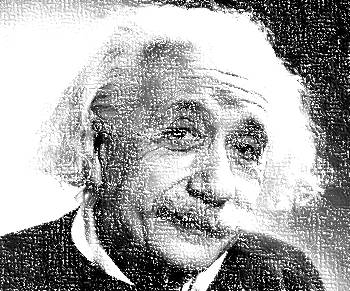
Похоже, не столько они верили в Бога, сколько Бог – в них. Они его не искали, но однажды нашли. Не разглядели, но безошибочно почувствовали. Горячий локоть. Глубокий вздох. Где-то рядом с собой – в тесноте Вселенной. Почтительно сняли шляпы и пропустили вперёд. Едва успев ощутить исчезающую в глубине пространства-времени царскую поступь.
«Природа показывает нам только хвост льва, – пишет один из них. – Но я не сомневаюсь, что хвост принадлежит льву и лев существует, даже если он не может показаться нам весь сразу». Это – не признающий никаких научных авторитетов Альберт Эйнштейн. В грозном 1914 году. После завершения работы над гравитационными уравнениями. В разгар поиска ключей к законам Вселенной. В благоговейном почтении перед устройством открывающейся этими ключами Его мастерской.
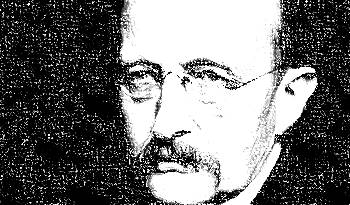
«Огромные успехи естественнонаучного познания укрепляют надежду на непрерывное углубление нашего понимания того, как осуществляет управление природой правящий ею Всемогущий Разум». А это – Макс Планк. Он читает лекции в Тартуском университете. На дворе не самый благостный, прямо скажем, для религиозных откровений 1937 год. Отец квантовой физики, подточившей устои классического мировоззрения, покорно склоняет голову перед Всевышним. Ревизию работоспособности сотворённых ими же механизмов дерзкие физики то и дело учиняли в бунтарском XX веке. Господь взирал на то с благосклонным спокойствием.

Они свято верили в науку. Для того, как потом оказалось, чтобы в итоге поклониться Тому, кто дал повод этой самой науке существовать. Не особо религиозный, ироничный, бурный Фейнман прекращает иронизировать, всматриваясь в божественную точность физических констант: если бы, скажем, они были чуть другими, Вселенная бы распалась. Точнее – просто не создалась. Господь был астрофизиком?..

Вряд ли теология – удел одних лишь богословов. Может быть даже – не их совсем. Как, впрочем, и физику не стоило бы доверять этим самым физикам. Ядерная бомба, термоядерная и т.п. «Физика слишком сложна, – то ли в шутку, то ли всерьез любил повторять Давид Гильберт, – чтобы отдавать её на откуп физикам». Религия серьёзнее вдвойне. Потому крайне нуждается в «дилетантах».
Скептиках. Агностиках. Позитивистах. Во всех тех, кто восходит к Всевышнему, таща на себе груз камней отрицания и сомнений в изначальном замысле.
«Для религии Бог стоит в начале всякого размышления, – продолжает Макс Планк, – а для естествознания – в конце. Для одних он означает фундамент, а для других – вершину построения любых мировоззренческих принципов». На них стартуют законченными скептиками, а финишируют – начинающими богословами. Стражами этики и морали – непоколебимых основ религиозного мировоззрения.
Так было с Эйнштейном. Так было с Планком. Так было с Фейнманом. Так было со всеми, кто честен был перед наукой, религией и самим собой.